Полина Барскова: «Мне нужно переключение времени»

COLTA.RU публикует очередную главу из биографического проекта ЛИНОР ГОРАЛИК — книги бесед с современными русскими поэтами «Частные лица»
— Расскажи, пожалуйста, про твою семью до тебя.
— На этот вопрос есть разные способы отвечать, я попробую несколько из них как-то реализовать в нашей беседе. Я прожила до 16 лет в Ленинграде, имея одно представление о своей семье до себя, потом там случились какие-то перемены. Я проживала в семье Юрия Константиновича Барскова и Нонны Чудиновой-Барсковой на станции метро «Московская» в Ленинграде. В таком скорее брежневском домике, на юге. Если прилетаешь в аэропорт, то как раз туда прилетаешь — там еще нужно проехать мимо блокадного памятника многофигурного. До Невского 18 минут на метро. Родители — востоковеды с неудавшимися с какой-то точки зрения профессиональными судьбами — по причине их идеологического легкомыслия. Они приехали — мама из Ленинска-Кузнецкого, Кемерова, Новосибирска, а папа в тот момент из Владивостока — приехали поступать на филфак в Питер, и по причине интереса к неизвестным им совершенно вещам оба оказались специалистами по Бирме (она сейчас называется Мьянма). Папа был такой весьма многообещающий, и мама была многообещающей, но несколько в иной плоскости. Мама была такая очень красивая, очень по-своему отвлеченная и очень независимая барышня. Папа действительно хотел делать науку свою. Он был историком-востоковедом, насколько я могу судить, вполне одаренным и увлеченным. Они оказались в Рангуне, где работали несколько лет, и это было частью моего детства потом каким-то образом. Потом они возвращаются в Советский Союз, и как-то так выясняется, что людям с дипломатическими какими-то обстоятельствами приходится по возвращении вступать в некие специальные отношения. Ну, они не вступают в отношения с этими институциями, и в общем на этом… Папа не может преподавать в университете, а мама вообще нигде не может преподавать. Такая тривиальная история. И их карьеры, судьбы так тихонечко странным образом складывались. Папа преподает в педагогическом институте, и у него проблемы с диссертацией. Мама становится техническим переводчиком в таком институте, куда берут не одобренных никем другим людей. Там очень славный директор этого института, который пришел с войны и не боится ничего, и складывается такой мир и круг общения. Это не фронда и не диссиденты, это люди, принявшие очень ограниченный круг решений, который при этом внес ограничения в их жизни. Мама очень много общается с художниками ленинградскими, позирует им, в частности, и с литературными персонажами тоже. И вот я выросла в той семье, общаясь с ними. Это была какая-то такая не очень веселая, но очень тактичная семья, очень-очень хотевшая, чтобы я читала. Это была классическая история, где в основном был главный мир — чтение.
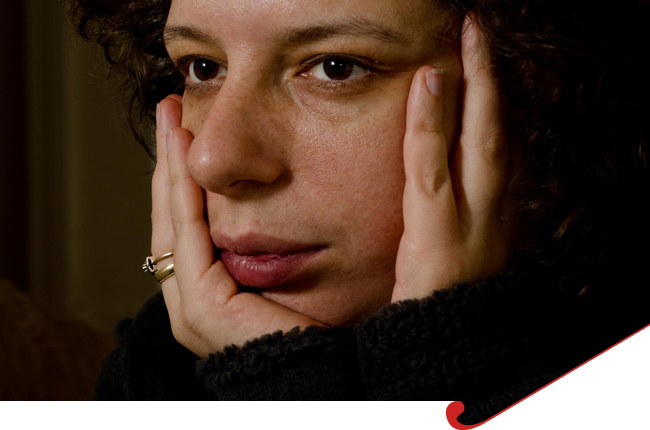
— Они были молодыми, когда ты родилась?
— Нет, они не были молодыми... В общем, это был такой мир не очень веселый. В начале жизни помню я какую-то меланхолию, но и при этом свою невероятную к ним привязанность и их привязанность ко мне. Я была единственным ребенком поздним. Какая-то связь между нами была не совсем понятная, как ты скоро поймешь по тому, что я расскажу. Много ходили по городу. Я с мамой, я с папой. Но с папой очень много молчания было в этих прогулках. Вообще неразговорчивый был человек, со мной же особенно. И как-то вот отношения с городом нам замещали отношения друг с другом. Никто мне особенно не рассказывал про то, что вот это был такой особняк или кто-то кого-то любил или убил, просто это была какая-то огромная часть этих молчаливых прогулок. А потом, гораздо позже, когда мне было 16 лет, папа умер… Он еще болел очень-очень много, и это было частью нашей жизни, его молчание и болезни.
Он умирает, и потом окончательно проявляется вторая часть того, что как-то существовало тенеобразно, но… То какие-то были оговорки, то ко мне подходили люди и говорили: «Да, очень похожа» — и отходили. И я думала: что же это значит? При этом пикантность состояла в том, что я не была похожа категорически на родных родителей. Родители русские и очень странной русской внешности. Большинство людей, которых я знаю, говорят, что моя мама была очень красивой в молодости, и у отца была, как пишется, благородная внешность. Это на самом деле были очень красивые люди. Я очень люблю перебирать наши старые слайды — любуюсь ими. Я думаю, не случайно сыграла свою роль в истории ленинградской культуры красота моей матери. Мама была такая, она и сейчас есть, сейчас, правда, немножко другая, она была тогда очень-очень рыжая, бледная, с такими, как стекло морское, длинными-длинными глазами, с диким количеством веснушек, такая она была вся как плеть, очень длинная женщина, гибкая. И в принципе ничего общего внешне я с ними не имела категорически, как мы можем видеть. Но тогда долго, хотя мне всячески пытались принести, нашептать эту правду так называемую, до какой-то степени я сопротивлялась ей.
Но потом, когда мне было 16 лет, папа умирает от инфаркта, и через год происходит мое знакомство с моим биологическим отцом, что, в общем, было крайне для меня изумительно, потому что я в то время уже серьезно относилась к творчеству Евгения Борисовича [Рейна] и совсем уж серьезно относилась к творчеству того, кого Евгений Борисович считал и называл Кем-то. Своим то ли учителем, то ли учеником...Мы так до конца и не будем знать, кого Евгений Борисович кем считал, потому что Евгений Борисович существо не то чтобы лукавое, но… Нет, не лукавое, он… Выдумщик он. И вот я с Рейном познакомилась, это было все сложно мне. Там с папой был тоже замечательный ход, потому что он узнал… Он очень долго думал, что у него рак, и очень надеялся от него умереть сам по себе, в советскую больницу не шел, потом пошел в больницу, и выяснилось, что у него не рак, но было уже поздно в том смысле, что он провел столько лет с этим всем, что у него осталось полгода здоровой жизни, и он умирает от разрыва сердца. При том что папа, вероятно, знал о какой-то части всей этой тривиальной и малоаппетитной истории, это как-то надорвало его, и у нас были странные отношения, я не была его радостью, но я была его жизнью. И при этом близости не было никакой, а было это молчание разделенное. И когда он ушел, огромная пустота возникла. В общем, это было трудно и так в 16 лет, сиротство, а потом еще появляется Рейн, которому все было не особо интересно, хотя ему все уже к тому моменту стали говорить, что я, возможно, литературно занятное существо, но его это все же не заняло особо, а было слегка и ненадолго любопытно. Он такой человек совершенно весь посвященный выживанию, обслуживанию себя, ухаживанию за собой — это какая-то огромная его жизненная цель к самосохранению, болезнь к жизни. Вот, в общем, все это было в какой-то степени сложно и важно и осталось таковым. Какое-то сочетание, я могу придумать, предрасположенности, книжности и вот этого молчания тревожного, в которое было погружено детство. Из этого сочетания, я полагаю, стихи и стали появляться. Самое замечательное, что со мной происходит последние несколько месяцев жизни, — я вдруг (не то что вдруг, но и вдруг тоже) встретила двух девочек, женщин, которые являются моими как бы полусестрами. И одну из них я встретила позавчера. Это было одной из важных причин моего приезда сейчас в Израиль.
— И каково это?
— Это очень странно и очень хорошо даже. Они каждая по-своему пленительны. Одна девочка — очень известная, блистательная вполне московская девочка со своими уже детьми, взрослыми девочками и мальчиками, ее зовут Аня. Другая девочка здесь живет, это Аля, и у нее тоже уже есть сын. И это невероятно странное ощущение — как бы немножечко наблюдение за инвариантом твоей судьбы и тебя, немножко что-то по-другому — и вот совсем другой человек получается. Мы живем в очень разных государствах, но при этом они мне обе очень понравились. Как-то вся эта ситуация — она как вода в песок, она просочилась в наши жизни и какой-то печалью внутренней и отсутствием ответов в нас осталась. Но при этом каждый с этим разбирается как умеет. Вот мне опять же повезло невероятно, мне были даны стишки, и я вот этот странный механизм пережевывания-переживания… Да, отношений с биологическим отцом у меня нет, о чем все любят спрашивать. Это по ряду каких-то причин прагматических возможно, но главное, что полное отсутствие необходимости и интереса с его стороны. И, насколько я понимаю, более или менее это относится ко всем детям. Он из какого-то другого материала создан и устроен.
Ну вот. А потом мне 17—18—19 лет, я учусь в университете на филфаке на классическом отделении, и это были очень симпатичные годы в смысле общения, в смысле того, что я писала, и у меня была какая-то очень симпатичная дружеская жизнь. Но вот семья такая, семья странная немножечко. Однако следует сказать, что из всего этого странного набора недосказанностей остались длившиеся и длящиеся всю жизнь и очень менявшиеся последние 10 лет отношения с моей мамой, которая оказалась в Штатах, вдруг… Опять же «вдруг» — смешное слово, мы любим Шкловского, но не совсем понятно, что оно значит, у каждого «вдруг» все-таки есть своя предыстория. Вот мама — одна из главных радостей моей жизни, у меня роман с мамой, на радость всем читателям Фрейда и Шекспира. Она, наверное, один из самых любопытных, непонятных мне, понятных и непонятных персонажей, она увлекает меня, и мне с ней невероятно важно, всегда интересно, всегда смешно. Вот такая история.
Я очень любила Вагинова как писателя, но что я буду писать о нем, этого я не знала.
— Давай теперь сделаем заход с другой стороны и попробуем говорить не про твое детство в твоей семье, а про твое детство в тебе самой. Начнем с самого начала: какой ты была, когда ты была маленькой? И вообще — с какого момента ты себя помнишь?
— Я себя помню очень поздно, вот никаких этих дел с…
— Тенями?
— Да, их нет. Я на эту тему очень люблю шутить со своими студентами, которым я все время преподаю Набокова, потому что он у нас самый главный американско-русский писатель, очень удачным образом писавший по-английски, так что в моей ситуации это все очень удобным оказалось. Я им говорю, что вот писатель Набоков помнил себя с колыбели, а я себя с трудом помню с 34 лет, да и то собирательно, не вполне. Ну, может, не с 34, но поздно. И как это ни странно, какие-то особенные, четкие моменты — это моменты того времени, когда я уже пишу. Другое дело, что я пишу рано.
— Со скольких лет?
— С восьми. Я начала писать очень отчетливо, сразу много. К сожалению, в моей жизни не так много вещей, про которые я могу сказать, что это какая-то уверенность была. Как мы раньше говорили: identity мой (моя, мое), там все достаточно размыто, национальное, историческое и так далее, но мама пыталась меня к чему-то приткнуть, водила в музыкальную школу, в художественную школу, еще куда-то, однако все это заканчивалось очень плохо — меня выгоняли из этих школ за ненадобностью, за какой-то такой раздражающей ненадобностью. И мама стала впадать уже в задумчивость по этому поводу, когда в какую-то одну из этих прогулок наших, субботних, допустим, она зашла в бакалею, я помню очень хорошо, около какой лавки это началось, я стояла на улице, и вдруг какой-то текст был мне явлен, заявлен, и я с удивлением, когда мама вышла из этой лавки, ей его продекламировала, и мама посмотрела на меня с удивлением. И с того момента мне стало ясно, что это такой какой-то способ быть собой, который делает меня собой. И через год где-то примерно мама, общаясь со своим другом, замечательным переводчиком питерским Леней Цивьяном, сообщила об этой моей открывшейся странности. И он ей говорит: «О, у меня есть друг — Слава Лейкин, он “пасет” таких деток, давай ты ее туда отведешь, и мы посмотрим?» Мама меня таки отвела в то, что тогда называлось литературным объединением «Пегасик» при газете «Ленинские искры», и с тех пор я много четвергов (все это происходило по четвергам после школы) туда стремилась. Это правда было в том своем явлении хорошее дело. Лейкин был человек невероятно странно одаренный, в этой как бы не области, что это за странная область — воспитание литературно одаренных людей? Интуиция у него была невероятная. Такт, остроумие, веселость, легкость. Он сам поэт и сценарист. Он написал несколько сценариев для Юрия Мамина, который «Бакенбарды», «Окно в Париж» и все такое отличное... С того момента, когда я начала писать стихи, все мое хищное до выгод существо сообразило, что все остальное вторично, неважно. Я очень моночеловек, и это осталось на всю жизнь, что все остальное — оно как бы постольку-поскольку, поскольку имеет отношение, может быть полезным словесным вещам. В школе не было ничего чудовищного, как там страдали-надрывались мои друзья, там просто было чудовищно скучно.
— А до школы были какие-то сложившиеся друзья, сложившийся мир?
— Нет, не было, были, как я уже раньше сказала, сложноватые отношения с родителями, в которых была какая-то печаль. И я сейчас особенно это понимаю, наблюдая за детством Фроси, моей дочери. Ей сейчас столько лет, сколько было мне, когда я начала писать. И невероятная радость в ней какого-то радостно и просто возлюбленного ребенка. Как бы там ни было, Фрося возлюблена своим отцом, своей матерью, своей бабушкой, своим миром, и это невероятное удобство своей расположенности в мире я в ней все время наблюдаю, что мир ей удобен. А мне он был неудобен. При том что я достаточно жизнелюбивое существо все же, как я думаю. Но вот все эти обстоятельства диккенсовской немножко истории, они как-то сформировали меня немножко по-другому. Я пришла в школу, когда мне было семь лет.
— Хотелось в школу? Ожидания какие-то были?
— Не помню. Помню, что когда пришла в школу первого сентября, встретила там девочку, там была какая-то связь через родителей робкая, туманная, и когда нам предложили вставать в пары, чтобы строиться и идти на линейку, я обернулась и увидела — вот девочка, которую я чуть-чуть как бы знаю, и я сказала: «Вот, давай идти, девочка, вместе». И эта девочка оказалась моим ближайшим существом на всю жизнь. Тридцать лет спустя она, Катя, мой ближайший человек, она в Штатах, она-то и оказалась мне сестрой, при том что мы очень разные люди — и при этом из одного материала оказались жизнью скроены, как-то срослись. И вот она меня на себе через школу как-то пронесла, протащила. Было невероятно скучно, и было ощущение, что можно не учиться вообще, чем все и закончилось. Мне удалось 10 лет провести не учась, потому что все достаточно быстро поняли, что там какая-то есть патология, «исключительность», потому что я и публиковаться стала рано, и меня вообще не трогали и дали пройти через школу, учебника физики не открыв. Вот так мы с Катей моей, подругой, прошли мимо всего этого опыта. Катя была в жизни, меня всегда защищала, дала мне дом, дала мне любовь и дала мне тепло. И были еще Лейкин и его дети, там было несколько, по крайней мере, детей, оказавшихся для меня очень важными. Вот чудесная Эстер, которая сейчас появится на чтении, она оттуда, она из той жизни, с 9 лет мы знакомы. Но там было двое детей, был мальчик Сева Зельченко, еще была такая девочка Аля Промышлянская. Аля до сих пор невероятно близкий мне человек, она в Нью-Йорке, она стала скорее художником. А Сева был и есть поэт, и тогда, надо сказать, с очень малого возраста все было понятно, Лейкин делал так, что все с раннего возраста было понятно, и в этом его доблесть, но и преступление, если угодно, потому что нам очень рано дано было понять, кто из нас кто. Но там было очень много детей, хотя при этом нам это дало образование, мы читали много внесоветского всего. Однако с очень раннего возраста мне дано было ощущение, неадекватное, своей исключительности и того, что эта исключительность связана только с литературной деятельностью.

На выступлении Евгения Рейна. Санкт-Петербург, 1993
— Это довольно жестоко, мне кажется.
— Ну в общем-то да, это как бы такие в известном смысле castrati, и это же аберрация, что человек пишет с восьми-девяти лет, но фокус в том, что очень мало кто из тех людей продолжил писать. И в какой-то момент всем стало до некоторой степени интересно, что выйдет из меня, потому что это как бы эффект, который Лейкин называл достаточно брутально «эффект Робертино Лоретти», когда связки меняются, зрение меняется и что-то меняется, гормональный фон в ребенке, — и все, ты перестаешь создавать эти слова. А у меня с детства было ощущение, что если я перестану, то что же тогда будет... И это, в общем, жестокая такая была вещь, но и она, наверно, тоже вошла в мой характер, в то, что есть я. Но при этом я не перестала писать так или иначе... Я еще помню в связи со всей этой чудесной пионерской звонкой славой, я ревностно следила за выдающимися успехами другого вундеркинда — Ника Турбина была такая, красавица... Ее очень поэт Евгений Евтушенко приветствовал — вот из кого надо гвозди делать и книги о ком писать... Недавно мне попалась на глаза биография Ники — это прямо Ларс фон Триер, он же Альмодовар, гнусная и грустная история, как будто специально выдуманная для тех, кого интересует вывеска «вундеркиндство и творчество»: там и наркотики, и замужество в 16 лет с психоаналитиком совсем уж преклонных годов, и все это венчает самоубийство... И тут я вспомнила разговор свой с Еленой Андреевной Шварц в Копенгагене за рюмочкой, мы там все памятник Кьеркегору под дождем искали — она мне и говорит строго: «Ну не знаю, Полина, что из вас выйдет — в вас уж больно как-то здоровья много!» Это я вот к чему: чтобы перерасти себя-вундеркинда, может понадобиться много здоровья и очень много терпения близких.
При том что там, в детстве, были совершенно советские, обязательные, нормальные моменты. Например, пионерский лагерь, причем в последнее время я очень часто об этом вспоминаю, может быть, потому что Фрося тебе напоминает, что было с тобой в этом возрасте, как ты на что-то реагировала. Вот меня высылали каждое лето в удивительное заведение под названием «Юный дзержинец», и какие-то стишки у меня есть, и не только стишки теперь есть. Папа преподавал в педагогическом институте Герцена, и у шефствующей организации пионерский лагерь был «Юный дзержинец». Это было такое поразительное, бардачное, странное заведение, где была огромная дырка в заборе, и никто не видел, что малюсенький человек там ходил к морю, в лес, сочетание дисциплинирующего компонента с абсолютным пофигизмом. Так что главное воспоминание детства — это серость, блеклость, необязательность всего, что есть школа, невероятное сосредоточение на литературности, увлечение этим дикое, этим миром, тем, что это можно глотать, это дает тебе какую-то власть, какую-то радость все время. Потом начались 90-е, потом папа умер, потом было какое-то ощущение краха всего, но поскольку я была в этом странном аквариуме, была капсула, которая очень защищала от внешнего мира, и я научилась замечательно капсулировать.
— Ты сказала, что еще во время школы тебя начали публиковать. Как это все было?
— Это произошло рано. Вот я стала писать в восемь, в восемь с половиной появилась у Лейкина, и где-то в девять-десять были уже целые подвалы моих стихов в газетках опубликованы. И когда я думаю, в чем отличие моей судьбы от судьбы в этом смысле того же Евгения Борисовича, который впервые опубликовался где-то около пятидесяти только, тогда у него первая книжка вышла, моя любимая, — «Имена мостов»… В этом смысле более разные судьбы поискать. Вся его жизнь была сформулирована и сформирована тем, что он не может публиковаться, он полунищий, он шут отчасти, он все время пытается еще чем-то заниматься, то он ghost-writer сценариев непонятно каких, то есть это вот такая какая-то история. А у меня с детства — я пишу, я публикую, я пишу, я публикую. В этом смысле это невероятная избалованность и дурная привычка. Потому что, как правильно грустно шутил тот же Лейкин на все эти темы, отчасти с детства это как бы эффект фокуса, циркового представления, что вот такая маленькая, а вот — надо же…
— Я все время думаю о том, как близко все, что ты рассказываешь, к миру детского профессионального спорта.
— Я об этом, как ты можешь себе представить, много думала. Кстати, когда меня попросила Варя Бабицкая почитать что-нибудь для Опенспейса, я выбрала такой стишок про то, что «страдание выше этики», и там появляются три литературных персонажа, как мне кажется, сыгравшие главную формирующую роль в моей жизни, и один из них — это Вячеслав Абрамович Лейкин, который «и тот, кто детскому тщеславью внушал прожорливость удавью». С одной стороны, это ощущение своего какого-то успеха и того, что ты как бы состоялся, но с другой стороны — что это может рассыпаться в любой момент, что ты завтра просыпаешься, и не пишешь, и не понимаешь, уже не знаешь — кто ты. И это, вероятно, каким-то образом тоже повлияло. Детство — это такой волшебный стеклянный шар, внутри которого был и Питер, и, в частности, какое-то сильное воспоминание: родители все время смотрели, каждые выходные мы смотрели слайды из Бирмы, там, где мама очень много фотографировала и путешествовала. Мама, как это было сказано, была бесстрашная и путешествовала там, где не очень было можно, и много-много фотографировала в монастырях буддийских, и потом для нее это стало каким-то раем ушедшим и потерянным, который сменился блеклостью советской, и все время вот эта стена в цветочек — обои советские, Ленинград какого-то унылого 1982 года и настенные золотые пагоды, что было совершенно непредставимо, но было какой-то их реальностью — такие платоновские пещеры. Было от родителей все время ощущение близости-дальности, расстояния. И вообще было такое же ощущение от мира, и стало достаточно рано понятно, что, чтобы завоевывать мир и постигать его, укрощать его, как выяснилось, мои стихи работали.
— Школа — такой период, когда у многих начинают складываться первые крупные романтические истории.
— Мои запросы юношеские были совершенно из области Страны Желанной, как сказано в отличной книге «Мио, мой Мио», я как-то влюблялась мифологически, у меня была мучительная страсть в области 13 лет к фотографии, вырезанной откуда-то тайно, — Михаила Николаевича Барышникова. Я тогда такие удивительные тексты писала, натурфилософские — например, о летнем дожде, называлось это «Барышников», а о зимнем дожде — «Бродский». И отношения с этим пантеоном были крайне интенсивные, как бывает во сне.
Да, и еще было детское великое чувство к Высоцкому, всепоглощающее, лет в 10. Главное, все эти детские страсти с возрастом не истаяли, как-то оказались переработаны сознанием. Потом, лет в 16—17, начались более возможные возможности, но по большому счету истории, которые сыграли важную роль, как-то немножечко не очень отличались. Это были невозможные истории не в смысле, что они были нереализованные, многие из них были даже весьма реализованы, но там был какой-то очень важный компонент невозможности. И одна история, которую я готова рассказать здесь, потому что без нее нет так называемой моей траектории жизненной. Мне было 19 лет, и у меня была уже какая-то симпатичная жизнь с одним замечательным человеком, который и остался таковым вполне, и даже как-то это было на что-то похоже настоящее. У него были чудесные родители, они были ко мне добры-добры-добры, и все это было как-то очень по-человечески.
Там жила и писала Эмили Дикинсон, там жил Фрост, а через лесок жила Сильвия Платт, а через другой лесок Бродский преподавал.
И я тут «вдруг» встречаю человека, заезжего молодца, у памятника Екатерине перед Александринкой... который оказывается стрелочником в прямом смысле этого слова, на которого можно много чего свалить, потому что он много переводит — стрелки в моей жизни, моей судьбе по большому счету. Это литературный критик, поэт и журналист, и он оказывается проездом в Питере. А до этого, будучи там, где он жил в тот момент, в Париже, он пишет обо мне статью, об одной из ранних моих книг. И он оказывается в Питере и решает встретиться с юным дарованием, и какой-то закручивается сюжет тут же. И хотя он, с одной стороны, вся классика жанра, мне никогда ни в одну секунду не принадлежал, никогда ничего не обещал, но при этом он обещал мне целый мир одним фактом своего существования, как водится — какой-то другой мир. Поскольку он был существо такое своеобразное, то все это было очень больно и очень нелепо, полная катастрофа жизненных и душевных удобств, которые к тому моменту были мной как-то устроены: все эти вещи были сломаны для того, чтобы разобраться с этой новой прекрасной катастрофой, которой был он. А потом выяснилось, что нужно аккуратнее быть и аккуратнее обращаться со словом «катастрофа», потому что катастрофа таки случилась потом — мой спутник погиб в Питере — под машиной на Невском в натурально белую ночь. Случайно он погиб или не случайно, я не знаю, был он молод, он был младше, чем я сейчас.
И это был рубеж, это был конец цикла, это было очень сильное ощущение, что оставаться в этом городе, искать какие-то новые ресурсы у этого города у меня не было сил. Меня вышвырнуло этой историей из той моей жизни, из города моего. И когда начали складываться какие-то странные, хитрые, словно нарочно придуманные обстоятельства после этого, я поняла, что мне пришло время уезжать. Мне пришло время бежать из своего города, от всего того, кем я была вот в этой ситуации.
— Какой это год?
— 98-й. Я оказалась в Штатах.
— Не хочется упускать кусок про поступление в университет и выбор места учебы.
— Не было выбора никакого, меня поступили. Родители были связаны с университетом, на классике учился Сева Зельченко, надо было меня куда-то пристраивать, и это было все очень странно, потому что никакого классика из меня не получилось даже приблизительно, я не могла этим заниматься, потому что оно было совершенно для меня мертвое, я не могла к этому пристроиться никаким образом. При этом там были яркие, пленительные, интересные люди, которые мне преподавали, мне было интересно с ними разговаривать, и им было занятно иногда со мной разговаривать, при том что они прекрасно понимали, что я им не ученик, просто мы дружили. А так это были пять лет какого-то блуждания, вот тогда начались дружбы со сверстниками наконец-то.
— Эта среда уже была по-настоящему твоей?
— Да, это была моя среда. И что оказалось невероятно важным, я встретила близких людей своего возраста, с которыми до сих пор очень близка. Университетская набережная, снег, мгла, курение, чтения, разговоры — очень хорошая, здоровая, мне кажется, по качеству своему юность. Вот такая была вполне симпатичная юность, пока не прервалась всей этой историей на ночном Невском. Я об этом иногда говорю, у меня какая-то неровная очень литературная поступь… У меня есть в 15—17 лет удивительные такие хитросплетения стишков, а потом есть провалы, а потом опять что-то возникает и опять проваливается, и становится скучно. В 15—17 лет, например, я писала очень странные тексты, которые до сих пор считаю живыми, именно они живы до сих пор, как живыми бывают какие-то растения. Ученый из меня в питерском университете не вышел, но я была счастлива, блуждая там, я становилась собой.
— Это давало что-нибудь, кроме социальной среды?
— Мне — нет.
— А диплом пришлось писать?
— Да.
— Интересный был диплом?
— Как сейчас выяснилось, да. Я занималась Катуллом. И что самое интересное — сейчас, 20 лет спустя, я вернулась к своему диплому, потому что сейчас я написала небольшую такую работу. Я писала тогда об очень странном тексте Катулла, где он размышляет о том, что такое дом. Это текст знаменитый о смерти брата. И вот сейчас я немножко занимаюсь проблемой того, как блокадники размышляли, что такое семья и дом в катастрофе. И я вдруг поняла, что тогда я пыталась думать о тех же примерно вещах. Для меня это было проблемой, для них это, возможно, не проблема, но мне в конце пятого курса впервые стало интересно, потому что мне разрешили заниматься не плюсквамперфектом, не частицами в греческом, а человеческими вопросами. Я вдруг написала этот диплом, про который мой профессор сказала: «Боже мой, Полина, это невероятно, мы все крайне удивлены, вы можете думать, а не только смеяться, курить и так далее, это очень даже странно».
— Ты успела окончить институт до отъезда. После института тебя распределяли?
— Нет, через месяц я уехала в Штаты.

Сан-Франциско, весна 2003
— Давай поговорим про 90-е. Параллельно с институтом у тебя были какие-то свои питерские 90-е? Что-то из этого периода имело потом значение?
— Да, на самом деле, да, конечно, имеет. Вот это самое мое вундеркиндское детство, там еще были моменты, что у меня там возникли встречи с невероятными людьми. Я в детстве была знакома, в очень ранней юности со Шварц, с Кривулиным, со Ждановым, с Айги, и с ними у меня были разной степени замечательные моменты. У меня был момент дружбы с не вполне, возможно, «модным», но от этого он меня не менее пленял… такой есть поэт в Питере — Алексей Пурин, он один из наиболее интересных квирных поэтов, пишущих по-русски, на мой взгляд. Я общалась с Ольгой Бешенковской, я много с кем общалась, они меня все держали на равных, за свою. Потом познакомилась с Сашей Скиданом, лет в 15—16, и вот это общение с ними: ты выходишь всегда в какую-то тьму, в восемь часов вечера, всегда снег, всегда коричневое небо, как водится, с какой-нибудь ужасной цигаркой в кармашке, потрескивают цигарки в этой коробочке мягкой. И ты идешь с кем-нибудь разговаривать, или с друзьями, или вот с этими взрослыми. Жили не просто бедно, жили за гранью размышлений об этой реальности. Когда папа умер, мы жили своеобразно — в том смысле, что всю свою юность я проходила в пальто аж своего дедушки, отца отца, оно было военного, очень странного вида. Возможно, это был бушлат. Но как-то в те поры это воспринималось естественно. Потом я оказалась в кругу людей питерских, которые связаны были с миром Хвостенко—Волохонского: друзья, художники, искусствоведы, в частности, вот там я очень много времени проводила. И вот это мои 90-е, ну никогда не голодноватые — тарелка супа была всегда, — но в этом смысле совершенно не материальные, холодноватые. Помню как-то, классическая была ситуация, что я стояла в каком-то совсем уж 91-м году, мама послала в очередь за хлебом, мне написали номер на руке, а я ушла на свидание, очень удачно его проделала, часа на четыре я ушла, вернулась, и вот как раз настало время, когда привезли хлеб. Вот это помню, но поскольку была крайне воодушевлена свиданием, то как-то это воспринималось... спокойно. Ну, хлеб... Более не социоэкономический отъезд, чем мой, мне кажется, надо поискать. Это был вот такой побег — от себя, от тени, желание движения.
— Про механику отъезда. В тот момент уже было легко уехать из Питера в Штаты?
— Мне очень помог один добрый и легкий на подъем человек. Я как раз сегодня с моим другом, переводчиком Давидом Стромбергом, здесь на эту тему говорила, что у меня есть целая теория ангелов, как они действуют на нас, эти ангелы, поди их пойми. Потому что тот человек, который погиб на Невском, — он тоже в каком-то смысле был ангел, был ниоткуда и в никуда. Появился, все изменил, изменил представления о вещах, изменил жизнь и исчез. Так же тот человек, который мне помогал уезжать в Штаты: он появился в жизни на очень ограниченное количество времени, он помог мне оказаться в Калифорнии с визой на месяц. Я уезжала по формату «бежать, куда глаза глядят». И я оказалась в Калифорнии, при том что я была нормальная девочка такая питерская, то есть я ничего вообще, кроме слов, не умела. У меня достаточно быстро появилось ощущение второй жизни, новой жизни, второго какого-то начала, и я тут же устроилась ухаживать за инвалидами за наличность, надо было вставать в пять утра, а ночью я была официанткой, когда мама узнала об этом в Питере, это был для нее ужас, смешанный с крайним удивлением. А в промежутках между уходом за инвалидами и ночными сменами было какое-то время, мне предложили сесть на автобус и проехать в городок Беркли, где была русская литература в университете, и поговорить с этими людьми. Опять же, как водится, я стала разговаривать с этими людьми, некоторые из них были уже обо мне наслышаны каким-то образом, и в какой-то момент, когда надо было решать, возвращаться или не возвращаться, они сказали: не хочешь ли ты попробовать свои документы подать на кафедру в аспирантуру. Это не было глобальным решением, это скорее было как шахматный ход, я совершенно не могла поверить, что меня возьмут. Но по ряду невозможных опять же обстоятельств… а там дело было не в том, что тебя берут, там надо было деньги найти, чтобы стипендию оплатить, потому что стипендия огромная, а у меня не было ни копейки вообще. Кто-то должен был целиком заплатить за эту аспирантуру. И в тот год в комитете по выдаче стипендий сидел такой невероятно важный американский музыковед Ричард Тарускин и ужасно скучал. Можно себе представить: там поступают какие-то математики, биологи, и все это не имеет к тебе никакого отношения. И вдруг он увидел, что поступает русская девочка-поэт. И он сказал: «Ну давайте дадим русской девочке-поэту стипендию». И вот я получила звонок, что я могу учиться в Беркли. И это смешно может показаться, что я в Беркли училась русской литературе. Приехать в Беркли, чтобы учиться русской литературе, из Питера, из моего мира — это было немножко смешно. Но выяснилось, что это не так уж смешно, потому что в Беркли преподают Паперно, и Матич, и Живов, а из американцев там преподавал и преподает человек, который оказал на меня огромное влияние: это ученый по имени Эрик Найман, набоковед и платоновед. И вдруг вместо этого плюсквамперфекта со мной стали говорить о Бахтине, Лукаче, Фуко, Лакане, вдруг начался мир humanities, мир живых вопросов. И после этого абсолютного, идеального, блаженного незамечания того, что происходит в классной комнате в университете и в школе, все вдруг оказывается важно и все вдруг оказывается про тебя. 21 год мне был, и я начала учиться, я не могла насытиться этим учением. Я была влюблена впервые в своих преподавателей, ловила их слова, взгляды, усмешки. Они этого от меня совершенно не ожидали, у них были сомнения, брать меня или нет, потому что им казалось, что я совершенно сформировавшийся реликт, что я девочка-вундеркинд из Питера со скучными претензиями сноба и что все это скучно, в конце концов. А я как раз хотела меняться, учиться, я хотела себя изменить, и это был такой счастливый момент. Да, еще про Беркли, папа за год до смерти провел в Штатах год по Фулбрайту — и привез мне оттуда свитер с надписью этой «Беркли», я в нем долго в Питере ходила, синий теплый был свитер, ну и память о папе. А потом оказалась там и была очень счастлива — поди пойми все это.
— Куда двигалась аспирантура? У тебя была основная тема?
— Я начала заниматься… А, да, моя мама кроме всего прочего была дружна с Вадимом Вацуро, одним из наиболее важных русских ученых-филологов питерским, она с ним дружила какой-то чудной легкомысленной дружбой, имеющей мало отношения к его занятиям готическим романом, Лермонтовым и Пушкиным, просто она была остроумной хорошенькой женщиной, и Вацуро немного играл, что XIX век никогда не кончался и не кончится и люди такого масштаба должны общаться с персонажами типа Россет и Волконской и так далее, мир хорошеньких умных женщин должен быть... Папа умирает, и среди прочего Вацуро надо мной сжалился, и как-то я с ним стала много проводить времени. Он и его жена Тамара меня всегда очень вкусной картошкой кормили еще... И он говорит: «Может быть, ты хочешь заниматься судьбами русской классики в XIX—XX веках, русским Горацием?» И у меня как-то стало в голове это происходить, и когда я оказалась в Беркли, я все еще думала, не хочу ли я этим заниматься, а там ужасно много интересного, но мой главный интерес пришелся на Вагинова, он сам-то не знал языков классических толком, но мир этот ему был интересен, и он общался с людьми, которые знали языки, он общался с Егуновым, с абдемитами и так далее.
— Для тебя этот интерес был неожиданным?
— Нет, я очень любила Вагинова как писателя, но что я буду писать о нем, этого я не знала. Я писала диссертацию об этом мире исчезающего, отступающего Петербурга в наступающем Ленинграде, я занималась 20—30-ми. И в диссертации было шесть страниц послесловия, в которых было сказано, что в 41-м году началась блокада и если кто-то из моих персонажей дожил до 41-го, то 41-й год в общем-то разобрался с этой проблемой. Там было несколько персонажей, которые стали меня интересовать, и я поняла, что вот эти все люди, еще пытавшиеся как-то длить Петербург 20—30-х, — они все погибают или перерождаются в блокаду, и я, поехав тогда как-то в Питер, стала смотреть понемногу на контекст их погибания. Причем мне все это было так дико как советскому когда-то ребенку, выросшему меж этих памятников про героизм... И вот, возвращаясь к самому началу нашего разговора, со мной что-то такое произошло, и я стала все время этим заниматься — внутренней отменой этого ярлыка героического. Ну, не знаю, вот, например, помирает писатель Пантелеев от голода, карточек у него нет по причине проблем с органами, он лежит на полу и стихи шепчет, щебечет, чтобы сознание не потерять... Я себе все представляю этот дистрофический шепот — ну при чем тут этот их героизм?
У каждого «вдруг» все-таки есть своя предыстория.
И люди меня часто об этом спрашивают, люди знают меня как существо гедонистическое, ленивое, нарциссическое и так далее. И то, что такой персонаж начинает служить блокадным мертвецам, — «Что такое происходит, как этот человек может?!» Я достаточно много об этом думала, поскольку все время об этом спрашивают и сам себя спрашиваешь. Иногда у меня среди всего прочего есть ощущение, что на данном этапе это мой способ служить моему городу, который я любила как умела, а потом бросила. Потом сказала: «Между тобой, мой город, и собой я выбираю себя, всего наилучшего тебе, мой город». И это решение предоставило мне массу удобств, я живу славной жизнью преподавателя русской литературы в очаровательном американском городке — но без своего города. И с тех пор я занимаюсь как умею, то лучше, то хуже, то так, то иначе, культурными сюжетами блокады. Это сразу после Беркли началось.
— Параллельно с учебой что в жизни происходило?
— Романы происходили, были очень важные, симпатичные лирические эпизоды, в основном с персонажами русской культурной сферы, да и не только, и в этом была какая-то известная приятность и прелесть, а потом я вышла замуж. В 27 лет я вышла замуж за американца, который ни слова не говорил и не говорит по-русски, за которым я до сих пор замужем через 10 лет, и через год после свадьбы я родила — как водится.
Тем временем, пока я учусь в Беркли, ко мне приезжает мама, которая, между прочим, осталась в Питере, и ей ни в каком страшном сне не снилась какая-то идиотская кино-Калифорния. А потом начинается интересное — моя мама выигрывает в лотерею зеленую карточку, а до этого уровень моей удачливости был как я тебе описала: то папа умирает от разрыва сердца после похода к врачу, который говорит, что он здоров, как космонавт, то возлюбленного сшибает на Невском — так как бы не очень удачно. И вдруг мама выигрывает грин-карту, мама приезжает ко мне на месяц и через три недели падает в обморок в ресторане, и это вторая стадия рака, но американцы ее спасают. И я совершенно уверена, что она до сих пор жива только потому, что оказалась в Штатах. И мама остается со мной, и у меня начинается вот эта американская жизнь, я встречаю отца Фроси — Эрика, тут оказывается та самая девочка Катя, одноклассница, я возрождаю свои отношения с девочкой-подругой Алей по лейкинским делам в Нью-Йорке, у меня возникает в мире славистики несколько очень близких людей, друзей, у меня возникает грибница, у меня возникают споры из как бы такой и русской, и советской, и наднациональной, и эмигрантской среды, и при этом я очень счастливо учусь и наслаждаюсь Калифорнией, потому что мне она идеально чужая, но при этом невероятной красоты.
— Что происходило со стихами все это время?
— Когда мне был 21 год, случайно, естественно, каким-то образом я оказалась на мероприятии, где в углу сидел Гек Комаров, издатель Пушкинского фонда, который про меня до этого кучу всего слышал, и все это ему не очень нравилось, как мне кажется. У него в голове абсолютно сформировалась идея, кто я и что я могу быть. И вдруг какая-то ситуация, и один мой друг взрослый говорит: «Знаете, в зале сидит Полина Барскова, давайте попросим ее почитать». И я думаю, что уж отказываться, ломаться поздно и как-то совсем глупо. И я читаю что-то, и ко мне подходит Комаров и говорит, что не время ли нам поговорить. И я ему высылаю стихи, и он делает из них «Everyday и Орфика», и так начинается второй взлет моей жизни в публикации. Выясняется, что меня опять публикуют и у меня прямой контакт с русским читателем. В моей жизни это Митя Кузьмин и Г.Ф. Комаров, они просто посадили меня в карман и понесли; и всегда такую странную родительскую роль играли.
— А что с публикациями на английском начало происходить? С переводами и так далее?
— О, это совсем другая история, но очень интересная. Наверное, все началось с моей встречи с таким молодым человеком Ильей Каминским, прославившимся своей книжечкой стихов по-английски «Dancing in Odessa». Он, собственно, родом оттуда, он очень образованный, светлый, такой активный, дружелюбный, красавец, в добавление ко всему глухой. Своя трагедия тоже за всем этим стоит, это психологическая глухота, связанная со смертью его отца. Сам Илья пишет по-английски. Мы с ним познакомились и подружились. Он всегда полон идей. Недавно, кстати, сделал отличную антологию — поэты думают и пишут о Целане...
— Это когда было?
— Мы познакомились, когда мне было, наверное, лет 25, в Сан-Франциско. И он говорит: «Давай переводить друг друга». Ну, давай, говорю. И так это началось, а потом постепенно… Мы получили какой-то приз за этот проект, и вышла маленькая книжечка моих переводов Каминского на русский в Москве. И он нашел издателя для своих переводов меня на английский. Потом молодой человек, Давид, который помогает мне сейчас в Израиле, услышал меня в Нью-Йорке читающей по-русски, он сам живет среди трех-пяти-семи языков, и он тоже решил, что будет меня переводить со своим другом Борисом Дралюком. Вышла вторая книга. И сейчас новый проект — меня переводит американка Катя Чипелла — книга, в которой будут, к моей радости, чудесные Степанова и Глазова, переведенные. Меня много сейчас стали переводить. И мне это все как бы любопытно, при том что я себя переводить не могу, не хочу и не буду. Я пишу статьи и «научку» по-английски, но это такой специальный, одного регистра, язык, к написанию стихов не имеющий ни малейшего отношения. Но при этом, поскольку все мои переводчики становятся очень близкими мне людьми (я с ними много времени провожу, обсуждая, что они делают с моими стихами), мне все это стало ужасно забавно как практика. И это какой-то результат в моей жизни произвело: я сейчас преподаю все больше и больше курсов, которые как-то связаны с идеей «поэзия и перевод», «поэзия как перевод» и так далее. И со своими ужасно приятными студентами я об этом разговариваю, время от времени что-то такое делаю, при этом я не переводчик как таковой, я не теоретик перевода, я поэт, много думающий о переводе. Мне очень удобна такая формула.
— Сам факт того, что тебя там публикуют, — как это ощущается?
— В моем случае я настолько вижу, что мои тексты в другом языке… Именно потому, что там есть удачи, так вот чем удачнее переводы, тем бесконечно они дальше от того, что я делаю. И я очень рада просто тому, что… Мне кажется, фокус такой: значит, это все очень эротические беседы, ну, в таком классическом понимании эроса, твой стиль заводит кого-то на то, чтобы превращать в совсем другие тексты. И это все очень интересно думать.
— То есть ты пытаешься сказать, что это ремейки?
— Да, абсолютно, это можно и так называть. Но про меня это особенно много чего не сообщает. Мне это приносит невероятно интересные беседы и контакты с людьми, которые готовы служить слову, потому что, опять же, труд переводчика стихов — это такой совершенно чудовищный труд. Там борьба за каждый оттенок каждого движения словесного. Вот это стало частью моей жизни совсем недавно, и это меня интересует.
— А себя ты не переводишь ровно по той же причине?
— Потому что мой английский… Я как-то хорошо чувствую, где он кончается. При этом, может быть, на кого-нибудь это ощущение вызова произвело бы приятно-провокативное действие — а я не могу, кто-то может — а я вот не могу и не могу — пока не могу.
— Расскажи про Эрика и дочку.
— Я выпустилась из Беркли. Уже матроной с детенышем. И, как водится в Америке, нужно искать работу. С работами очень сложно в академии, и там такая система, что это такой спорт, соревнование. На ту работу, которую я получила, подавала тьма народу. Даже не то что соревнование, это абсурд, потому что, как сейчас я понимаю, сама мрачно сидя в этих комитетах по выбору и найму профессоров… 300 файлов чтения — это фантазм. В тот год профессора русской литературы искал себе колледж, где я преподаю, один из самых странных колледжей Соединенных Штатов. Он находится в Амхерсте, такой городок в Массачусетсе западном, где жила и писала Эмили Дикинсон, там жил Фрост, а через лесок жила Сильвия Платт, а через другой лесок Бродский преподавал. То есть это очень странные лески — вроде сказочные. Вот, и все эти колледжи, которые там находятся, — знаменитые старинные колледжи Амхерст, Смит, Маунт-Холиок, славные, богатые колледжи, — в 70-е годы решили родить колледж-мечту. Такая очередная утопия. Колледж, где не будет оценок, где вместо оценки в конце работы и в конце семестра преподаватель пишет о студенте небольшое эссе о том, каков этот студент как писатель, мыслитель…
— Очень сложно для преподавателя, конечно.
— Смертельно. Представь себе 40 эссе о 40 студентах.
— Этически сложная задача.
— О да. Вот там нет оценок, там нет того, что называется специальностью, каждый человек придумывает себе свою собственную (я хочу быть химиком и музыкантом, я хочу быть поэтом и дизайнером).
— It's so fucking contemporary.
— Да-да, поэтому эта мечта и не умерла в отличие от большинства мечт 70-х. И, в частности, странность всей этой ситуации заключается в том, что вообще-то в Америке если ты пишешь что-нибудь, то девочки налево, мальчики направо, если ты сам пишешь, то ты туда, если ты пишешь о ком-то, то ты сюда. И ты должен совершить выбор более или менее. Как бы если ты хочешь быть филологом, то ты должен более или менее молчать в тряпочку о своем несчастье быть поэтом...

— А ты оказалась в такой очень российской истории, когда и сам пишешь, и о других пишешь.
— Да. И мне всегда говорили: «Думай, как ты свое резюме делаешь» — но я поскольку иногда отвлеченный человек от реальности, я уж как было, так и написала. И в общем большинство школ знаменитых, куда я подавала на работу, которые сейчас со мной очень даже довольны играться, приглашать и так далее, — они даже не смотрели в тот момент. А Хэмпшир тут же сказал: «Приезжай разговаривать». Вот, и я нашла работу. И мы из Сан-Франциско, из Беркли переехали в Новую Англию. Там на машине три часа до Нью-Йорка, два до Бостона. Опять же я вернулась из рая в климат детства.
— Мокро, холодно и темно?
— Мокро, холодно и темно. За мной были столь великодушны последовать мама, муж и детеныш. Я выяснила для себя, уже оказавшись в Хэмпшире, что… Ну все всегда непросто, в частности, для меня сейчас, например, одной из очень актуальных задач является то, что надо научиться мне что-то со временем делать, потому что метод все время письма на коленке в автобусе, во сне и в душе, как в фильме «Psycho» эта сцена… так я пишу стихи.
К разговору о разных увлечениях: многое о себе мне пришлось узнать из газет. Читаю какое-нибудь очередное интервью с Рейном, его спрашивают там: «Другие виды искусства, которые не стихи, вам интересны?» И он говорит: «Всю свою юность я отслужил кино, чтобы разочароваться в нем и прийти к живописи». Я с ужасом это читаю и слушаю, потому что как бы… Что тут говорить и думать по этому поводу, пока непонятно нам с наукой-генетикой. Потому что именно такими же путями что-то во мне развивается! Я много занималась кино в Беркли, и я преподаю очень много фильмов сейчас, при этом я категорически не чувствую себя киноведом как таковым, я чувствую себя литератором, которому полезно знать что-то о кино для своих литературных затей.
— Это очень в духе твоего колледжа.
— В частности, да. И в колледже эта синтетичность канает в высшей степени. И это очень приятно. Так вот, для меня Хичкок, и Орсон Уэллс, и Пазолини, и Параджанов, и Герман определяют очень важные вещи...
Вот опять же я стала понимать, что мне нужно будет больше времени, мне нужно переключение времени. То, что произошло со мной недавно, это очень важно для меня сейчас, я впервые написала то, что я сейчас называю не-стихи. В прошлом мае я закончила такой текст, который сейчас Кузьмин уже опубликовал в «Воздухе», он называется «Прощатель». И если выражаться очень линеарно, хотя весь этот текст, мне кажется, про невозможность выражаться линеарно, он про… Я не знаю, про что он... Он про проблему прощения. В личной жизни, в исторической жизни. И как бы там существуют три персонажа, один из которых — девочка, от которой отказывается знаменитый отец, другой — Примо Леви, которого лучший друг называет Прощателем, проклиная его таким образом, а третий — это знаменитый, успешный советский литературовед Дмитрий Максимов, который прожил умеренно фрондерскую, вполне симпатичную советскую карьеру филологическую, ну, с Блоком и Брюсовым и так далее, а потом вдруг выяснилось, что он был гениальным поэтом, в частности, он написал несколько решающих блокадных текстов и, так же как Гор и до известной степени Зальцман, никогда, до самого последнего момента никому ничего не показывал, как будто бы носил в себе эту тайну страшную, эту поэзию и эту память. И таким образом (что-то мне прошлой зимой было исключительно хреново по ряду каких-то причин своих) я стала писать то, что… И поскольку так получается, что об этом тексте уже исследования сейчас пишут и появляются статьи научные о том, что такое «Прощатель», что это мир... Что происходит в таком письме на самом деле, кроме модных слов «новые формы работы с архивом», «новые формы…»
— А главное, что слова «новая форма работы с…» вообще решают для критика любую…
— Да. Это к тому, что для меня начался теперь какой-то новый кусочек, когда я пытаюсь сделать эти не-стихи какие-то, и это требует для меня и от меня других форм вложения времени, потому что, возвращаясь опять же к сцене из «Psycho», я так прозу писать не могу. Стихи могу, я стихи уже, кажется, в любом состоянии могу, но проза требует другой степени концентрации и свободы, других форм времени. И вот это то, на что американская жизнь очень скупа и сурова, она особенно временем не разбрасывается. И это, наверное, одна из главных задач, вопросов для меня теперь — как находить время и свободу, свободное время для забав письма.
А с другой же стороны, вся эта хэмпширская эпопея… Я для себя выяснила, что я невероятно люблю преподавать, что меня просто как втыкают в розетку, я питаюсь этой энергией. В любом состоянии. Еще одна вещь: там нет формата лекции практически. Там приходят, прочитав, чтобы обсуждать прочитанное… Только семинары. Все, что произойдет, зависит от тех вопросов, которые будут заданы, привнесены студентами. В общем, это очень симпатичная история, такая живая, потому что там ничто не предсказуемо, будет очень скучно, если не родился вопрос.
— Дико интересная ситуация, в которой преподаватель зависит от качества студентов. Сильный поворот в том, что мы привыкли понимать под образованием.
— Да. Два месяца назад я получила там, что называется, постоянный контракт, посмотрим, что будет дальше. И, возможно, одна из вещей, которые будут дальше, — одно замечательное учебное заведение меня зовет попреподавать во время моего академического отпуска, что брутально, но соблазнительно, курс по современной русской поэзии. По-русски. Что ужасно смешно, потому что вдруг я смогу преподавать своих друзей-любимых и как бы разбираться со своими друзьями на каких-то других уровнях.
— Давай о Фросе?
— Надо сказать, когда ребенок появился в моем животе, у меня был ужас-ужас. Почти арзамасский. Не то чтобы это была такая невероятная неожиданность, я как бы знала, что у людей бывают дети, но когда это так сбылось, со мной случилось нечто… Я не нашла ничего лучшего, нежели написать исторический и истерический мейл поэту Анне Глазовой, не стоит ли мне покончить с собой сразу, тут же и навсегда. На что поэт Анна Глазова, более трезвая, чем я, сказала, что ничего, прорвемся. И я ее спросила: «Все, что я сейчас, закончится, все кончено?» На что она сказала: «Да, все кончено, но все начнется». И мудрая Аня была права. Наверное (то есть не наверное, а точно), знакомство с Фросей оказалось одним из самых сладостных, огромных и все изменивших событий. То есть вот все, что ты знаешь о жизни, пришлось передумать. И при этом ничего банальнее, наверное, нельзя сказать, но проблема «пишущая женщина и детеныш» остается проблемой ежесекундной.
— Как она устроена, каково с ней жить? Как у тебя это получается?
— Каждую секунду по-разному. Но в первые восемь лет Фросиной жизни мой муж, с которым у меня непростые, естественно, отношения, оказался гениальным отцом. Ничего другого не скажу, врать не буду, но в отцовстве он нашел какое-то свое довоплощение. И, что еще более странно, моя мама абсолютно реализовала себя в отношениях с внучкой. Они очень счастливы с ней. Мне просто очень повезло с этим, они позволили как-то чуть-чуть убрать иглу из этого места. Потому что в этом месте есть игла. Ты каждую секунду должен выбирать между… Это не совсем выбор…
— Это деление крошечных кусков времени на крошечные куски действий.
— Вот именно. Перед тобой теплое, сладкое, пахучее, любимое, лукавое, остроумное — или перед тобой блокада эта жуткая, или стихи, или что угодно, тексты... Одиночество, из которого происходят стихи. И все время зажимает то в одном месте, то в другом. Это очень странная вещь. Ты все время с собой договариваешься, то есть себе врешь. Это что-то невероятное. Но, к сожалению или к счастью, я не тот человек, который совершил выбор в пользу одного из этих… Опять же, глядя на историю нашего ремесла… Люди принимают разные решения. И опять же, будучи дочерью своего не-отца — вот человек принял свои решения. Но при этом, какой он там ни есть, как в моем старом стишке — «жалкий, забавный», он сохранил себя. Мы все еще знаем, что ему 80 лет, безумный старец, страшный, жадный, на свете живет великий поэт Евгений Рейн. Значительный, ярчайший поэт советского русского века. Не обо всех людях того поколения и той эпохи это можно сказать. Пожертвовав очень многим, в частности нами, мною, он сохранил себя. И это очень неприятно, неловко, непонятно, как действовать с точки зрения морали, этики и эстетики, но это так. У каждого свое решение.
— Как Фрося оказалась Фросей? Как имя выбрали?
— А, очень смешно. Она не Фрося, она Фрейя. Если бы был мальчик, мне было бы разрешено назвать его Юрием, в честь папы. Но поскольку Фрося оказалась не мальчиком, то выбирать имя должен был Эрик. Он принес совершенно безумный список имен, одно загадочнее другого.
— Включая Валькирию и Гебу?
— Если бы. Номером первым в списке было гордое имя Одесса. Я себе представила, как гляжу в глаза всем своим друзьям и так далее. Причем он как-то пользовался древнегреческими ассоциациями, но когда я на секунду себе представила, я тут же поняла панически, что нужно там что-то все-таки найти, там была какая-то вагнерианская Фрейя, и я тут же подумала, что там у нас Фр... — ну, Фрося. У каждого приличного человека случалась знакомая кошка — Фрося. И вот дочь моя оказалась абсолютной Фросей. Кроме всего прочего, там опять же генетическая странность: Фрося вообще на меня не похожа, Фрося — копия внешне отца. Отец — шотландец по происхождению. Это такая девочка с носом размером с пуговку, с громадными серо-синими глазами, вся в веснушках. Я говорю, шотландская. Вот если можно себе представить не семитское лицо, то это Фрося Кроуфорд. И прелесть ее шотландская достаточно знаменита, потому что даже потрясенный эстет Кузьмин, когда приехал в Россию после проведенных у нас деньков, стал задумчиво рассказывать: «У Полины такая красивая дочь!»
— А внутренне похожи?
— Гораздо светлее. Гораздо светлее. Вот, а еще интересно то, что она рисует. Для нее вот сейчас, в 8 лет, наиболее естественный способ проявления себя — это бесконечное рисование и математика. Когда ей тревожно, она садится, решает математические задачи и иллюстрирует их сценами из жизни пингвинов и волшебников...
-
16 сентябряДума пересмотрит законопроект о реформе РАН Идею Национального центра искусств оценит Минкульт Премия Пластова отложена Выходит новый роман Сорокина Капков не уходит
-
15 сентябряГребенщиков вступился за узников Болотной
Кино
Искусство
Современная музыка
Академическая музыка
Литература
Театр
Медиа
Общество
Colta Specials

