Действие искусства

Как быть искусству, когда все можно и все запрещено, задается вопросом РОМАН ОСМИНКИН
Начиная с 1960-х годов первый мир в избытке производит художников, дизайнеров и креативных работников. Западная бюрократия при болезненном переходе своих стран в постиндустриальную эпоху нашла отличный выход: мы создаем условия для максимального освобождения потенциала человека, а тот сам себе придумывает, а главное, находит занятие. На месте старых заводов и доков, как грибы после дождя, возникли арт-кварталы, дизайнерские ритейл-стрит, центры современного искусства и дизайн-фабрики.
Творческую братию отмыли и причесали, усадили за модные лэптопы на мягкие пуфы, вставив в руки фруктовые коктейли и натянув на лица блаженные улыбки. А тем, кто не хотел причесываться и отмываться, пошли на уступки — благо поздний капитализм позволяет — и выделили под их радикальные критические жесты и политическое утопиестроение специально отведенную территорию, маркированную современным искусством. До поры до времени эта модель казалась очень удобной, позволяющей четко дифференцировать творческие отправления по степени эффективности и, следовательно, встраивать их в наличные производственные отношения.
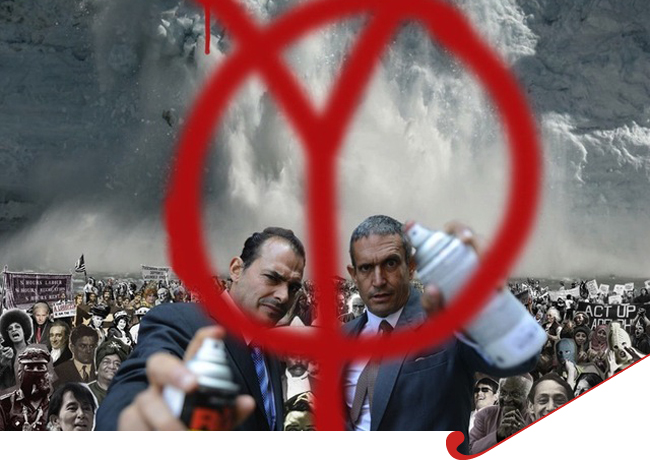
Еще в 1983 году американский журналист Пол Фассел (Paul Fussell) опубликовал редкую (классовый анализ!) для Соединенных Штатов книгу под названием «Класс: путеводитель по американской социальной системе», в которой проанализировал структуру американского общества и выделил в ней особую группу людей (X-people), находящихся вне рамок традиционных классов и не вписывающихся в социальную иерархию. Ее ядро составляют те, кто занят в научной и технической сфере, архитектуре, дизайне, образовании, искусстве, музыке и индустрии развлечений. Эти мобильные, «вольные» предприниматели и составили ядро победоносно шествующего неолиберализма. Система предусмотрела и свои «исключения из правил» для тех, кто в нее не встраивался, — редкую фигуру растраты, нетелеологического времяпрепровождения в насквозь рациональном и нацеленном на результат обществе: художника-бунтаря, независимого куратора, артхаусного режиссера и т.д.
Но что-то начало сбоить, собственно, сбоило с самого начала: если «Фабрика» Энди Уорхола явилась этаким протокреативным кластером, то Ситуационистский интернационал со своими «организованными переживаниями» и практиками «высвобождения» (détournement) сразу вываливался за пределы отведенного искусству гетто. Теплых мест на всех явно не хватало. Число новых «лишних людей» постфордистского этапа цивилизации росло прямо пропорционально их массовому «выплевыванию» передовыми арт-институциями. Ведь пресловутый класс X-people, ставший фундаментом creative industries, так или иначе не резиновый, а уж в условиях жесткой неолиберальной конкуренции — так и вовсе четко устанавливающий свои границы в пределах корпоративных бюджетов на инновации и рекламу.
Актуальные художники и поэты, внештатные творческие работники, активисты радикальных политических движений, музыканты альтернативных групп, дауншифтеры, экопоселенцы, жители религиозных общин — сегодня это в разной степени так называемые лишние люди, носители маргинальной идентичности, или попросту богема. Но это не la bohème — «фигляры и лаццарони», накипь всех классов, которую Маркс в «Восемнадцатом брюмера» определил в «электорат» Луи-Наполеона. Как пишет Олег Аронсон в своей книге «Богема. Опыт сообщества»: «Маркс был представителем той самой богемы... Кочующий по Европе заговорщик, тайный борец с существующим порядком, безденежный интеллектуал-газетчик, носящий внутри себя страсть по революциям и баррикадам». Может быть, поэтому la bohème стала для него «слепым пятном». Нас же интересует больше вот что: тот же Аронсон через голову Беньямина делает акцент на «внутреннем заговоре» богемы против политического порядка: Беньямин в работе «О некоторых мотивах Бодлера» показывает на примере Бодлера, как этот заговор вырастает в заговор против порядка вообще. По Аронсону, она («Богема» уже с заглавной буквы) «представляет собой такой тип сообщества, который противостоит буржуазному пониманию социальной общности, выраженному в таких понятиях, как “семья”, “народ”, “государство”, “общество”. Удел представителя богемы — одиночество, то, что его привлекает, — толпа, самое тайное желание — революция, самое продуктивное действие — иллюзорный коммуникативный образ».
Число новых «лишних людей» постфордистского этапа цивилизации росло прямо пропорционально их массовому «выплевыванию» передовыми арт-институциями.
Именно по «телу» образа пролегла сегодня «линия фронта» между культурной индустрией, включающей в себя институт contemporary art как свой безóбразный негатив, и Богемой. Образ первой изначально спектакулярен и строится на игровом обнажении разрыва между означающим (искусством) и означаемым (жизнью). Такой тип образа заинтересован только в желающем, фетишизирующем взгляде. Его удел — эстетическая репрезентация через должным образом устроенные медиа, расфасовывающие образы по нишам культурного потребления. Конечная цель такого образа, даже (и тем паче) если она хорошо завуалирована и как можно более отсрочена, — овеществление, а попросту — превращение в товар. Что мы и можем наблюдать на протяжении всей истории искусства после освобождения последнего от ритуальных религиозных функций — от экспериментов художников-станковистов с преодолением иллюзии трехмерности в живописи, имеющих сегодня шестизначное выражение в денежных знаках, до перформансов Марины Абрамович, с которыми художница гастролирует на бис по периферии глобальной империи contemporary art.
Что же противопоставляет этой все нарастающей эстетизации повседневной жизни сегодняшняя Богема? Прежде всего, она отказывается от прерогативы эстетического критерия оценки образа. И тогда на первый план выходит мораль образа, а именно — его этическое (подноготное) означаемое. Сегодняшняя Богема — это не маргиналы, выпавшие в зону лишенности по воле судьбы или по факту рождения, а определенный онтологический модус присутствия; не категория классового содержания, а сеть сообществ с осознанно выбранной этической позицией и способом быть. Каждый рекрут такой сети — это сопротивленец социализации, настаивающий на месте своей маргинальной идентичности как легитимном. Ведь сообщество тем отличается от общества в целом, что переосмысляет и конституирует само понятие морали, а не пользуется ею.
Богемные сообщества постиндустриальной эпохи переопределили категорию праздности как неэффективного и непроизводительного времяпрепровождения, которое они не готовы инструментализировать в настоящем, не готовы бросить в топку машины креативности все свои творческие порывы. Несмотря на праздность, эти «непроизводящие сообщества» постоянно что-то производят — но все время не то и не так, как надо обществу. Например, полулегальные или даже легальные топосы богемы, арт-сквоты, в отличие от своих предшественников индустриальной эпохи, домов-коммун, смогли на практике осуществить «растворение искусства в жизни» (то есть совместить в себе коммуну, дом культуры и фабрику), правда, в пространстве, ограниченном рамками сквотированного анклава свободы, живущего по своей морали.
«Непроизводящие сообщества» постоянно что-то производят — но все время не то и не так, как надо обществу.
Здесь, уже на новом витке, разочарованная в современном либерализме и рыночных отношениях творческая молодежь Запада обратилась к опыту раннесоветского коммунитаризма. В концепции номадологии Делеза и Гваттари солидарность индивидов вырастает пропорционально их разнообразию, которое конструируется через постоянный процесс культурной коммуникации, через отношения. Так, посреди прогрессирующей атомизации и отчуждения возникли новые коллективные идентичности, не отрицающие индивидуальность. Сегодня этот тип богемной автономии раздираем огромными противоречиями как извне, ввиду жесткой неолиберальной политики — установления рыночных цен на некогда захваченные помещения (или появления инвестора) и последующего силового выселения, — так и изнутри, ввиду ритуализации и окостенения некогда подвижных форм творчества и быта.
И тогда на первый план выходит так называемое искусство действия, акционизм и интервенционизм. Собственно говоря, поворот от произведения искусства как конечного «объекта» к процессу его создания, к учреждающему акту и жесту художника, произошел еще с опытов футуризма и дада и полностью оформился в 1950—60-е в экспериментах лидера группы «Флюксус» Джорджа Мачюнаса или «живописи действия» Джексона Поллока. В России, начиная с Андрея Монастырского и группы «Коллективное действие» и вплоть до безудержного дикого русского акционизма 1990-х, такое искусство действия оказывалось заложником постоянного поиска выхода за свои границы, в которые его ставила логика социального и мировоззренческого развития.
Разрушить саму идею мимесиса, отменить репрезентацию, отождествить означающее с означаемым, уравнять сцену с метафизическим ядром жизни… Но как? Художники принялись лихорадочно искать прямого взаимодействия с «настоящей» жизнью, сознательно покидая «символические» пространства музеев и галерей. В своем отрицании искусства и желании непосредственной встречи со зрителем они довели художественный жест до крайней степени своей радикальности. Вряд ли кто-то превзойдет венских акционистов по количеству насилия, крови, экскрементов и туш животных. Вряд ли кто-то соорудит более масштабные флешмобы из обнаженных человеческих тел, чем многотысячные живые инсталляции американского фотохудожника Спенсера Туника. Вряд ли кто-то еще поизмывается над собой так, как Олег Мавроматти. Но что дальше? Можно, конечно, тешить себя тем, что даже всеядный капитализм подавился и не смог встроить некоторые из самых отталкивающих и шокирующих жестов в свои амортизационные механизмы, но и только.
Российский философ и антрополог Елена Петровская в своем докладе на конференции, посвященной Д.А. Пригову, предложила отринуть любые эстетические категории применительно к «искусству действия» как реакционные и выдвинула социально-антропологический подход в виде «картографирования народного тела» при помощи вслушивания во всеобъемлющую трудноразличимую жизнь. Вслушивания или всматривания — ведь образ и визуальное вообще, как мы уже отметили выше, конституируют сегодня нашу повседневность. Подробно разбирая понятие образа, Елена Петровская в своей последней книге «Безымянные сообщества» пишет, что образы изначально множественны и априорно социальны «в том смысле, что постулируют связанность тех, кого сами же и проявляют». Субъект образа — это всякий раз некая общность, чувствующий и грезящий коллектив. И «без этой связности мы не можем себе помыслить ни жизнь в постиндустриальную эпоху, ни власть “общества зрелища”, ни тем более свободу от него».
Будем же верить в христианский принцип равноправия, который навечно прописан в Новом Завете.
Так значит, можно не бороться с образами, а, разглядывая их неявные связи и потоки, картографировать материальную сторону образа, то бишь вторгаться в логово репрезентации и поселяться там в качестве Другого, радикализируя неассимилируемые различия. Это открывает нам другой полюс «искусства действия» — интервенционизм как спонтанное зондирование общественного мнения, провоцирование социальных событий, которых не могло бы состояться без вторжения в отлаженную машину образов (так и подмывает употребить тут альтюссеровское определение «идеологического аппарата». У Петровской в докладе к интервенционизму также прикрепляются сопротивление — как сопротивление сил жизни в навязывании им чужого образа; «плохое» искусство и поэзия, на которые не распространяется авторское «я»; а также инакомыслие как действие художника с отсроченным эффектом. На примере акции группы Pussy Riot — это готовность сесть в тюрьму, «абсолютное гостеприимство» (Деррида), где приход неизвестного заранее ничем не обусловлен и непредсказуем.
Подходы, предлагаемые Еленой Петровской для правильного понимания «искусства действия», сегодня как нельзя кстати. Но самый яркий пример такого искусства в России — акция девушек из группы Pussy Riot — явился все-таки скорее крайней степенью радикализации той столетней «эстетической» революции в акционистском искусстве, которую я вкратце обозначил выше. Это был предельно героический жест одиночек, завораживающий и неповторимый. Пик и тупик одновременно. Это доказывает и логика медиа, которые тут же поставили на поток производство образов «блудниц» и «монашек» и усиленно создают из названия группы модный, сиречь продаваемый, бренд. Повторять эту акцию глупо, да и мало кто осмелится — такое искусство необобществимо. Сделать себе балаклаву — еще не акт сопротивления, а сесть в тюрьму готов далеко не каждый. Надежд Толоконниковых и Марий Алехиных у нас единицы. Что делать всем остальным «слабым» мира сего, кто на аффективном уровне протосоциального жеста желает богемности, но боится порвать со своим местом, хоть как-то упорядочивающим их в общественном пространстве?
Но что, если взять на вооружение интервенцию, сопротивление и инакомыслие как инструменты сегодняшних богемных сообществ в борьбе за легитимацию своих маргинальных идентичностей вообще? Здесь мы наконец добираемся до моего главного тезиса: сегодня необходимо не только перестать мерить «искусство действия» и интервенционизм как передний его край эстетическим аршином, но и самому этому «искусству действия» и интервенционизму порвать со своей эстетической пуповиной. То есть диалектически развернуть само «искусство действия» в «действие искусства». И тогда та же акция Pussy Riot открывает нам целое поле новых возможностей. Все порожденные ею медиа- и социоэффекты: опубличивание судебного процесса и тюремного быта, серийное размножение мест суверена для собственных высказываний, раскол церкви на фундаментальную и прогрессивную и т.д. — все это подрывает коды прочтения устоявшихся образов и даже ставит под сомнение исключительное право власти на их производство. В гибридной, «ризомной», «текучей» среде современного мегаполиса подобные эффекты заново переконфигурируют места отправления гражданских и политических ритуалов и, более того, делают впервые возможными некоторые из них.
Итак, мы начинаем отсчет с чистого этического акта сопротивления. И уже сам этот акт найдет свое медиа и свою форму, а следовательно, учредит и свой образ, который сможет чувственно разделить каждый, не заботясь о его полезности и морали, потому что эта полезность и мораль неразделимо присутствуют в нем.
Ради шутки пофантазируем, какие интервенции нового типа могла бы спровоцировать акция Pussy Riot. Для этого не будем ходить далеко и приводить в пример американскую группу соглашателей Yes Man, мимикрирующих под консультантов и административных директоров корпораций, или американский крейгслист — сеть бесплатного обмена чем угодно, разорившую множество частных компаний в стране. Не будем также говорить о бурной низовой политизации первого мира последних лет: канадской некоммерческой антипотребительской организации Adbusters и группе хактивистов Anonymous, давших начало многотысячному движению Occupy Wall Street.
Останемся в пределах российской действительности: она каждый день подбрасывает нам такие жизненные вывихи, что никакое искусство не поспевает, — но, я надеюсь, вы уже поняли, что и не нужно. «Движение монахов и монашек за выборность игуменов и игумений». Расклейка листовок такого содержания: «Игумен-назначенец, отобранный по принципу хозяйственных, а не пастырских дарований, эксплуатирует труд монахов, обеспечивающих комфорт и роскошь настоятельского быта, в то время как бесправные и безропотные жертвы настоятельского деспотизма работают порой по 18—20 часов на монастырском производстве, без молитвы и богослужения, ради которых они и покинули мир». Или вот, к примеру, «общество православных феминисток» за посещение церкви во время критических дней. Или даже радикальнее: «В то время как во главе Евангелическо-лютеранской церкви Германии встала женщина, в Русской православной церкви до сих пор даже нет ни одной женщины-священнослужителя! Будем же верить в христианский принцип равноправия, который навечно прописан в Новом Завете, в Послании к Галатам, в 3-й главе: 27. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. 28. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе». Ну и дальше пофантазируете сами.
-
12 сентябряКапков устал от культуры?
-
11 сентябряКоролевский театр Мадрида возглавит Жоан Матабош Закрывается музей Маяковского Венский Концертхаус обанкротился Макаревич и Хавтан поддержат узников Болотной «Третий путь» лишают помещения
Кино
Искусство
Современная музыка
Академическая музыка
Литература
Театр
Медиа
Общество
Colta Specials
