Лиам Янг: «“Будущее” — не существительное, а глагол»

СТАНИСЛАВ ЛЬВОВСКИЙ поговорил с британским архитектором-футурологом
Архитектор Лиам Янг живет и работает в Лондоне. В 2010 году журнал Blueprint включил его в число 25 людей, которые изменят архитектуру и дизайн в ближайшие годы. Янг — основатель исследовательской группы (think tank) Tomorrows Thoughts Today, которая изучает современные тенденции урбанистики, дизайна и технологий, способные повлиять на завтрашний день, и один из кураторов Лиссабонской архитектурной триеннале (его проект для триеннале в Лиссабоне называется «Совершенное будущее»). Янг также руководит экспериментальным проектом The Unknown Fields Division в AA School и дважды в год отправляется в экспедиции на край земли для исследования малоизученных территорий. Недавно Янг побывал в Москве и прочел лекцию «Дивное новое сейчас», ставшую первым мероприятием летней программы института «Стрелка». СТАНИСЛАВ ЛЬВОВСКИЙ встретился с Янгом и поговорил с ним о новой футурологии, новой роли архитекторов, новом понимании пространства и новых подходах к изучению и проектированию городов.

— Несколько дней назад я был на коллоквиуме, где исследователи из Технического университета Дармштадта Петер Ноллер и Мартина Лёв рассказывали среди прочего о своей методологии изучения образов города — в частности, они изучают то, как город описывают его жители или гости. Поэтому первый вопрос — какими несколькими словами вы могли бы описать Москву?
— Напряженная, насыщенная… У меня много слов, но дело в том, что вчера я тусовался с вашими журналистами и экспертами, и у них взгляд на Москву довольно безнадежный. Так что я теперь даже и не знаю — мне со стороны показалось, что все не так плохо. То есть до сих пор мой опыт пребывания в Москве лучше всего было бы описать как… любопытный, наверное. Вчера мы, в частности, стоя на террасе (бара «Стрелка». — Ред.), говорили о том, как системы власти на протяжении многих лет манифестируют себя в архитектуре. Ты смотришь на увенчанный золотом монолит на том берегу Москвы-реки (ХХС. — Ред.) и понимаешь, что перед тобой прямое, физическое воплощение коррупции невероятных масштабов, построенное на пенсионные накопления целого поколения жителей страны. Очень интересно смотреть, как исторические слои спрессовываются в группы объектов городской архитектуры. То есть мне интересно — но мои русские коллеги говорят об этом с горечью.
— Вы футуролог. Для меня, например, слово «футурология» в значительной степени скомпрометировано. Кажется, что футурология осталась во времени, которое закончилось вместе со сциентизмом, то есть тогда, когда иссякло более или менее массовое производство образов будущего. То есть мне кажется, что футурология — это парадоксальным образом нечто из прошлого, пусть и недавнего. Для вас футурология — явно нечто иное. Что?
— Мне кажется, что футурология никуда не девается и никуда не делась. Просто в одни исторические периоды она более важна и продуктивна, чем в другие. Футурология, очевидно, была более востребована в шестидесятые-семидесятые, чем в последующие десятилетия. Но архитекторы всегда думают о будущем. И мне кажется, что в кризисные моменты будущее снова становится проектом. То есть снова приходит время, когда футурология приобретает смысл и продуктивность. Потому что в тот момент, когда кризис наступил, — все, пессимизм мертв. Для архитектуры, в частности, наступление кризиса означало переход к микропрактикам — какие-то временные лавки, временные же выставочные пространства, всякое такое. Мне кажется, что это как-то в буквальном смысле мелковато. Что мы находимся в той точке, где нам необходимо смотреть на вещи прямо, бесстрашно и масштабно, в точке переоценки. И я полагаю, что взгляд на будущее из этой точки критично важен. Архитектура по сути своей очень сильно зависит от рынка, от состояния экономики. И на предыдущем этапе мы на двадцать лет забыли о будущем — просто потому, что мы занимались его строительством. То есть в буквальном смысле строили. Мы заново придумывали Дубай, Китай… Это время закончилось — и я пытаюсь думать о том, как теперь, в новых условиях, архитектура может быть продуктивной, как она может изменять мир и сохранять смысл помимо того, чтобы быть просто изящным ремеслом, обслуживающим тех деспотов, у которых пока не кончились деньги. И мне кажется, что один из способов этого достичь — размышлять о будущем.
Cмотришь на увенчанный золотом монолит на том берегу Москвы-реки и понимаешь, что перед тобой прямое, физическое воплощение коррупции невероятных масштабов.
— В прошлом масштабное видение всегда ассоциировалось с тем, что называется большим нарративом. Сегодня, по крайней мере, как принято считать, большие нарративы мертвы. Как может масштабное видение существовать в мире без больших нарративов?
— Дело в том, что футурология, которой мы занимаемся, — это не предсказания, не футурология планов. Мы не пытаемся создать образ единственного будущего, куда все должны стремиться. Напротив того, мы пытаемся разрабатывать множественные, альтернативные друг другу сценарии. Нас интересует s в слове futures. Такая множественность — основа нашего критического подхода. Мы представляем разные сценарии с тем, чтобы люди из широкой аудитории смогли увидеть возможности, которые в этих сценариях заключаются, и начать осознанно принимать решения. Мы пытаемся повысить информированность аудитории, чтобы углубить понимание ею происходящего — в частности, в том, что касается новых, быстроразвивающихся технологий, биологии, экологии. И чтобы люди могли сами начать определять свое будущее. Нам нравится считать, что «будущее» — это не существительное, а глагол; это не то, что с нами произойдет, а то, что мы создаем. И если мы его создаем, то это, в свою очередь, означает, что мы должны понимать заключенные в разных сценариях возможности — тогда мы можем принимать решения. В том числе и поэтому мы представляем свои размышления о будущем в формах, допускающих толкования. То есть это не утопии и не антиутопии, не конкретные планы, но скорее потенциально многозначные образы, которые провоцируют аудиторию как-то на себя реагировать.
— Иными словами, это означает, что вы заняты не футурологией как таковой, но обозначением проблемных полей, так?
— Да-да! Именно. Мы пытаемся инициировать дискуссии по разным направлениям.

— Кажется, в последние годы любой разговор об инициировании дискуссии упирается в проблему вовлечения. Экспертное обсуждение — одна история, но вы-то пытаетесь вовлечь, как я понял, людей с улицы. Какими инструментами вы пользуетесь для того, чтобы вовлечь людей? И я имею в виду не интернет, то есть не технологии, тут все более или менее понятно.
— Мы хотим работать с аудиторией за пределами архитектурного сообщества, да. Для этого мы прибегаем к историям. Все любят истории — все равно, в какой форме. Все ходят в кино по пятницам. Все — по крайней мере, время от времени — читают на ночь романы. Это вообще базовый способ культурной коммуникации — басни, нравоучительные истории, сказки… Давайте посмотрим на дискуссии вокруг последних достижений биологии, например, вокруг технологий, использующих стволовые клетки. Это одна из технологий, которые я называю «дозаконными», то есть такими, которые уже работают, а правового поля для них еще не существует. И не только правового, но и культурного. Технология есть, но культура еще не выработала понимания того, что эта ситуация — когда мы можем заниматься дизайном природных объектов — вообще означает.
Как мы на это реагируем? Сейчас нас по сути вынуждают выносить по поводу таких технологий абстрактные суждения морали. Вынуждают обращаться за ответом на вопрос о том, что такое жизнь, к Библии. И получается, что вся эта дискуссия направляется туда, где у ее участников нет никаких твердых оснований для вынесения суждений. Мы же предлагаем поразмышлять над теми сценариями будущего, которые современная биотехнология может запустить. И мы представляем эти сценарии на уровне историй, по отношению к которым люди могут определиться в позитивном или негативном смысле. Так мы инициируем дискуссию, и по ее результатам у людей появляются менее абстрактные основания для принятия решений, чем неотрефлексированная религиозная этика или неотрефлексированная традиция.
Мы хотим работать с аудиторией за пределами архитектурного сообщества.
— А почему вообще архитекторы инициируют публичное обсуждение биотехнологий? Где в таком случае границы архитектуры?
— Я вообще выступаю за расширение роли архитектуры. Мне кажется, что знания и умения архитекторов или урбанистов попусту тратятся на строительство зданий. Мы очень преуспели в сужении области собственной компетенции. Но при этом мы находимся в уникальной, редкой позиции между культурой и технологией. Архитектор может говорить с инженером или ученым, с художником или режиссером — и все эти разговоры будут небессмысленными. Архитектура потенциально является областью синтеза знаний об обществе, о среде, о культуре, в которой будут вырабатываться новые подходы. Мы пытаемся понять, как архитектор может быть шире вовлечен в создание проектов будущего в качестве стратега, куратора или provocateur — но не в качестве ремесленника, создающего отдельное здание. Это особенно важно применительно к современному городу — ведь определяющие его факторы часто нематериальны. Мы привыкли к тому, чтобы мыслить город как совокупность зданий, дорог, парков. Но сегодня город в довольно значительной степени определяется технологиями, сетями, программным обеспечением, спутниковыми системами, определяющими координаты, наконец, мягкой инфраструктурой и цифровыми сообществами. И если мы как архитекторы хотим изменить город, нам придется работать с этими материями, а не с кирпичом и сталью. Вот почему важно раздвинуть границы архитектуры — в противном случае она быстро маргинализуется, и мы превратимся в кого-то вроде дизайнеров сумок Louis Vuitton, обслуживающих людей с деньгами.
— Давайте немного подробнее поговорим об этих нематериальных факторах.
— Мне кажется, нам надо обратить пристальное внимание на то, как цифровая реальность переопределяет и город, и национальное государство, влияя тем самым не только на повседневную жизнь, но и на геополитику. Вот я, скажем, живу в Лондоне. Но я никогда не общаюсь со своими соседями с верхнего или с нижнего этажа. Я все время провожу онлайн, общаясь со своими друзьями в Твиттере. Мой Лондон — это не соседи, не люди, обитающие со мной на одном куске земли. Мой Лондон — это сеть, с которой я взаимодействую посредством экрана. Мы привыкли делить реальность на «настоящую» и виртуальную. Но на самом деле виртуальная реальность накладывается на «настоящий» мир и проникает в него. Они становятся неразличимы. Как это меняет наши представления о том, что такое город и что такое национальное государство? Как меняется понятие юрисдикции и что мы теперь имеем в виду, говоря о «культурных границах»? Что происходит с нашими идентичностями жителей тех или иных мест? Мне кажется, это все очень интересно.

— Во многих своих текстах вы довольно часто повторяете слово «номадический». Да и вообще за последний год мне в нескольких книгах по урбанистике встречались утверждения о том, что пространство тает, а место исчезает. Тем не менее все, что мы делаем, привязано к пространственным координатам, физически мы все равно локализованы. До какой степени, по-вашему, мы вообще можем использовать ставшие популярными какое-то время назад представления о детерриториализации — и не настала ли пора переосмысления после того, как первая волна энтузиазма в этой области сошла?
— Мы говорим о «смерти географии». И не только в смысле «смерти места» — не менее важно здесь исчезновение традиционного определения границ. Границы сами по себе — не более чем абстракция, какие-то странные линии, которые мы рисуем на картах, — являющиеся, впрочем, результатом переговоров, политических и иных. Но цифровая реальность на самом деле не уничтожает эти представления, она их меняет. Место или география никуда не деваются, но представления об этих вещах смещаются. И хорошо бы понимать, куда они смещаются, в каком направлении. Вот наша с Кейт Дэвис номадическая, как мы ее называем, дизайн-студия Unknown Fields Division в Лондоне — мы путешествуем по миру и ищем условия, определяющие жизнь в современных городах. Чтобы понять Москву или Лондон, сегодня недостаточно просто изучать физический план. Недостаточно просто ходить по городу в качестве включенного наблюдателя. Чтобы понять города такого уровня сложности, необходимо изучить ландшафты, порождаемые этими городами. Мы в своих путешествиях прослеживаем производственные цепочки, глобальные сети. Мы исследуем пересекающиеся области различных систем, которые производят современный город. Мы отправляемся в Западную Австралию, где добывают золото — его потом выплавляют, и оно отправляется оттуда в различные точки мира, чтобы стать частью электронных компонентов, из которых потом собирают айфоны или ноутбуки. Мы ходим по Москве, заглядывая в Google Maps, но устройство, транслирующее нам эти карты, находится в узле огромной пространственной сети, его составляющие происходят из разных частей мира. Всякий раз, включая свет или отопление, мы приводим в движение огромные производственные цепочки. Город — не сингулярный объект, а сетевой. Он связан со множеством огромных территорий по всей планете.
Знания и умения архитекторов или урбанистов попусту тратятся на строительство зданий.
Мы пытаемся понять структуру этих сетей и производственных цепочек. Потому что только это дает нам как архитекторам и урбанистам возможность заниматься дизайном этих мест. Ландшафты производства — это не «места» в традиционном, туристическом смысле слова. Но дизайн городов начинается там. Города отбрасывают тени — длинные, по всей планете. И нам следует обратить на них внимание. Меняя эти тени, мы можем менять и города. Город собирается из множества факторов, внешних по отношению к нему. Представьте себе облако: оно возникает из ветровых потоков и разницы температур в атмосферных слоях. Архитектор как стратег, как эксперт по логистике, как инженер инфраструктуры может сделать для современного мира гораздо больше, чем архитектор как автор отдельно взятого здания.
— Вы описываете архитектора, с одной стороны, как медиума между культурой и технологией, а с другой — как конструктора. Насколько вообще приемлема концепция конструирования городов? Я здесь имею в виду конструирование как антоним естественного роста.
— Вы знаете, естественность — это же тоже культурный конструкт. Что значит «естественный рост»? Технологии всегда были инструментом конструирования. Я просто думаю, что нам надо сместить точку приложения усилий, заниматься не столько самим объектом конструирования, сколько окружающими его сетями, системами, которые генерируют город. Мне кажется, это гораздо интереснее и потенциально продуктивнее.
— Это гораздо более амбициозная задача, да, я понимаю. Вопрос в другом. Вы помещаете архитектора в точку осуществления власти. Но конструирование же происходит не в вакууме, на другом конце процесса — люди, живущие в городе.
— Если мы говорим о конструировании инфраструктур, которые позже порождают сами города, это дает людям возможность заново изобретать такие инфраструктуры самыми разными способами.
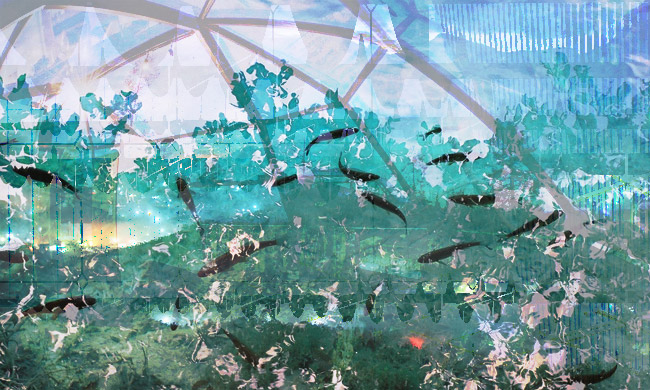
— Например?
— Давайте возьмем какой-нибудь простой пример, материальный. Вот парк, зеленая зона. Мы создаем в городе непрерывные зеленые зоны, открытые пространства. Это предоставляет возможность для целого спектра реакций. Город сам может определять, как выглядят границы этих зон. Ну, например, по их краям можно строить прозрачные здания — просто потому, что они находятся по соседству с деревьями, а не с шоссе. Возникают новые возможности.
— Ну хорошо; это, конечно, очень гипотетический вопрос — но что если люди не хотят, чтобы там была зеленая зона?
— Я понимаю, к чему вы клоните: это вопрос о том, до какой степени мы навязываем людям свои взгляды и подходы. Но мы не просто разрабатываем стратегии — они являются продуктами сложных переговоров. Архитектор не работает сам по себе как изобретатель-одиночка. Любое конструирование предусматривает долгие и интенсивные переговоры в самых различных областях. Мы не корпорация, мы экспертный центр, то есть наши проекты предусматривают совместную работу людей, принадлежащих к самым разным отраслям знания, — антропологов, социологов, ученых-естественников, инженеров. Мы, во-первых, и разрабатываем проект в процессе интенсивных консультаций, а во-вторых, и осуществляем его посредством переговоров с правительственными структурами, политиками, представителями гражданского общества. Итог — всегда результат компромисса. То есть это не про навязывание конструкторского решения сверху, это про совместное конструирование новых решений.
Города отбрасывают тени — длинные, по всей планете.
— Значит ли это, что тут необходима работающая и отлаженная машинерия таких переговоров и консультаций?
— Да, определенно.
— Дело в том, что чуть раньше мы говорили о длинных производственных цепочках, которые большими своими частями находятся в странах, где таких механизмов просто нет.
— Да, это очень сложно, и именно с этой сложностью мы и имеем дело, пытаясь ответить на вопрос о том, как вообще возможно вмешательство в таких масштабах — и в текущей ситуации кризиса представительства. У нас нет готовых ответов, но мы считаем необходимым обозначить наличие проблемы, рассказать о том, что она вообще существует. Мы на очень ранней фазе процесса. Но дело тут не только в том, чтобы сказать: такая-то и такая-то проблема существует. Важно не только свидетельствовать, но и предложить какой-то способ действий. Посмотрите на историю экологических организаций. Они полагали, что стоит показать людям по телевизору пингвина, облепленного мазутом, как мы начнем что-нибудь делать в этой связи. А мы нет, не начали. Свидетельства недостаточно, нужно связать эти картины с тем, что происходит в нашей повседневной жизни, и предложить альтернативы, предложить сценарии ответного действия. То есть сначала да, мы рассказываем о том, что вот ваш (то есть каждый) ноутбук находится в центре пространственной сети ландшафтов по всей планете и производственных цепочек, говорим о том, что вот так все сложно устроено. И говорим об этом так, чтобы люди могли определиться относительно этой реальности. Но потом нам предстоит вместе вырабатывать альтернативные способы мыслить эту ситуацию: как работать с распределенными производственными системами? Как сделать так, чтобы и город, и удаленный ландшафт, включенный в эту систему, не страдали от нее, а, наоборот, получали какие-то преимущества?
— Давайте вернемся к футурологии. Что сейчас является предметом вашего особого интереса?
— Мы сейчас работаем сразу в нескольких направлениях. В частности, мы интересуемся физической инфраструктурой цифровой реальности. Ну то есть мы думаем об облаке как о чем-то, что существует повсюду, окружает нас. Но у него есть физическая часть — и она огромна. Взять хотя бы оптоволоконную инфраструктуру. В моей родной Австралии сейчас осуществляется проект прокладки кабеля через весь континент. Это самый дорогой инфраструктурный проект за всю историю страны. Самые масштабные инвестиции чуть не с XVIII века. Или вот Google Fiber кладет кабели. Они создают таким образом новые рынки, соединяют людей высокоскоростными каналами. Но можно взглянуть на это иначе — как на соединение не людей, но мест. Можно говорить о том, что сами места, где проходит кабель, становятся новой разновидностью территорий, которые можно превращать в заповедники, например. Нам интересно про это подумать.
Точно так же, как генная инженерия, распределенное хранение данных — «дозаконная» технология.
Или инфраструктура хранения данных. Сейчас дата-центры расположены в основном в странных маленьких американских городках — потому что там власти предоставили какому-нибудь Facebook хорошие экономические условия. Но постепенно они смещаются на Север, где есть дешевая энергия, вода для охлаждения и вообще подходящий климат, в котором холод бесплатен, его не нужно специально вырабатывать. Где на самом деле живет интернет, где мир хранит свои данные? Возникает целый ряд совершенно новых проблем, связанных и с представлениями о юрисдикции, и с вопросом о том, кому принадлежат данные. Где-то здесь же — проблема приватизации знания. Облако в основном принадлежит трем компаниям. Что это означает? Точно так же, как генная инженерия, распределенное хранение данных — «дозаконная» технология. Мы плохо понимаем, куда все это ведет.
У нас есть один проект, называется «Электронные контрмеры». Толчок ему дали события «арабской весны», в ходе которой мы наблюдали захватывающий проект формирования сообществ в мобильных и социальных сетях — причем таких сообществ, которые смогли сменить правительства. А правительство в ответ просто отключило сети. Нас заинтересовало: можно ли построить более автономные сети? Робототехники и инженеры сейчас разрабатывают концепт автономных дронов, несущих WiFi-роутеры, позволяющие обмениваться данными даже при отключенной государством или компаниями инфраструктуре. Они перемещаются по городу, такая текучая система, не зависящая от оптоволокна, которое контролируется корпорациями или правительствами. Это провокативный проект, как раз призванный инициировать дискуссию о том, кому принадлежат данные и инфраструктура. Правительствам? Google Fiber? Это все очень важно, потому что от ответов на эти вопросы зависит наше ближайшее будущее.
Мы также проводим очень много времени за изучением сырьевых ландшафтов и добывающей промышленности — мест, откуда происходит физическая часть цивилизации. Мы пытаемся представить себе новые способы мыслить эти ландшафты. Потому что сейчас они находятся в основном на периферии — и сознания, и когнитивной карты мира, представая нам только в очень специфических разновидностях медийного нарратива.
— Как вы себе представляете будущее в политических терминах? То есть вот через десять лет вашими (в том числе) стараниями появится более информированное поколение. Оно со всей своей информированностью обнаружит, что вокруг него — кризис если не представительства, то, по крайней мере, традиционной партийной системы. И что дальше?
— Я думаю, одна из самых интересных вещей, что случились с нами за последние годы, — это движение Occupy. Нас оно интересует как один из возможных проектов будущего. Его основная ценность — не в конкретных требованиях, а в диалогичности. Движение инициировало дискуссию о том, что нам следует взглянуть на вещи иначе, о том, что следует задуматься об альтернативных моделях управления и вообще об альтернативных моделях. Важны именно дискуссии, происходившие в публичных пространствах городов. Это прототип некоего нового стиля жизни. Если бы Occupy продержалось немного дольше, мы получили бы рабочую модель активизма нового образца. К сожалению, этого не произошло.
Не знаю… но кажется, что новые технологии могут способствовать возникновению новых типов общественных ассоциаций. У меня нет ответа на вопрос о том, как будущее будет выглядеть в политических терминах, но я думаю, что усвоение обществом новых технологий прояснит картину — и уже довольно скоро.
-
19 августаФрай обсудил с Кэмероном бойкот Олимпиады в Сочи Создается интерактивная карта библиотек Москвы Объявлены участники фестиваля WOMAD Russia Навальный отказался от дебатов в малозначимых СМИ
-
16 августаУволилась редакция «Артхроники» Норман Фостер не будет реконструировать ГМИИ?
Кино
Искусство
Современная музыка
Академическая музыка
Литература
Театр
Медиа
Общество
Colta Specials
