39 книг, которые объяснили Россию

COLTA.RU попросила писателей, поэтов и мыслителей назвать книги, которые наиболее полно объясняют, что с Россией было и будет
В опросе приняли участие:
Юз АЛЕШКОВСКИЙ
Юрий АРАБОВ
Андрей БИТОВ
Сергей БОЛМАТ
Юрий БУЙДА
Дмитрий БЫКОВ
Григорий ДАШЕВСКИЙ
Борис ДУБИН
Зиновий ЗИНИК
Вяч. Вс. ИВАНОВ
Александр ИЛИЧЕВСКИЙ
Николай КОНОНОВ
Алексей ЛЕВИНСОН
Юрий МАМЛЕЕВ
Максим ОСИПОВ
Павел ПЕППЕРШТЕЙН
Игорь ПОМЕРАНЦЕВ
Евгений ПОПОВ
Захар ПРИЛЕПИН
Юрий РОСТ
Ольга СЕДАКОВА
Алексей ЦВЕТКОВ
Владимир ШАРОВ
Татьяна ЩЕРБИНА
Михаил ЭПШТЕЙН
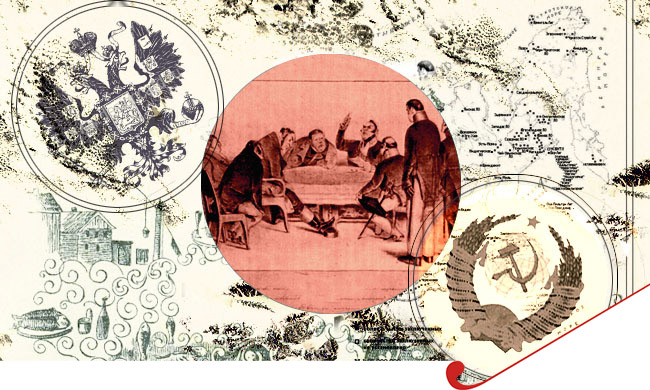
Юз АЛЕШКОВСКИЙ
Назад к списку
«1984» Оруэлла, «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына и «Руку» Юза Алешковского (надеюсь, вы не отнесете отзыв о самом себе к плодам абсолютно чуждого мне нарциссизма) считаю тремя лучшими книгами, наиболее глубоко раскрывающими идеологическую, псевдодуховную и безнравственную сущность ленинско-сталинского утопического тоталитаризма, определявшего все жизненные пути несчастной России в XX веке.
Юрий АРАБОВ
Назад к списку
На мой взгляд, лучшая книга ХХ века, написанная на русском, — «Роза мира» Даниила Андреева. Автор — последний крупный духовидец, и его текст значительно расширяет границы мирового христианства как гносеологически, так и онтологически. Это христианство будущих столетий, где даны описания нисходящих и восходящих духовных миров, как у Данте, но без дантовской политический сатиры, которая сильно принижает «Божественную комедию». Главное достоинство концепции Андреева — снятие с Бога санкции наказания и ответственности за зло в нашем падшем мире. Другие книги, которые я бы выделил, — «Обломов» Гончарова как наиболее полное описание русского характера и «Война и мир». Толстовский эпос противопоставляет личную историю общественной, закрепляя за первой такую же подлинность, как и за великими историческими сдвигами. Подобный взгляд будет современен в России еще долгое время.
Андрей БИТОВ
Назад к списку
Я считаю, что вся настоящая русская литература, включая дореволюционную и то немногое, что было написано вопреки системе и советской власти, — вся о России. Может быть, русская литература и есть единственный наш менталитет. Значит, она и есть об этих вопросах: о настоящем и будущем России. Менталитет — это ответственность. Ответственности нет, а боль выражена. Русский писатель и есть орган этой боли. И дело тут не в гражданственности, а в совести.
Никто по плотности выражения не сделал лучше портрета России, чем Гоголь в «Ревизоре» и «Мертвых душах»: этот портрет и сегодня такой же. Я не буду брать в примеры ни Пушкина, ни Толстого, ни Достоевского, ни Чехова, потому что они в самой прекрасной форме выразили наши возможности, а не перспективу. А поскольку они говорили о настоящем, которое у нас постоянно, то оказывались в какой-то мере пророками, потому что вся суть русских проблем оставалась неизменной.
«Россия в 1839 году» Астольфа де Кюстина остается странно русской книгой, в которой описывается главная беда России: этот ее комплекс перед миром. Если бы Пушкин не погиб, а в 1839 году оказался в Париже, то она могла бы быть созвучна его чувствам.
Если говорить о том, какое у России будущее, — то хватит с нас разговоров об этом, надо заниматься настоящим. Нас в советское время закормили идеологией (которая использовалась как орудие, но не как идея) и мечтами о будущем, а между тем говорить о будущем окончательно стало празднословием. В XX веке самая плотная реальность — это не то, что могло быть написано как продолжение русской классической традиции, а то, что не могло быть написано, не будь режима. Тогда это окажется книгами Платонова, Зощенко и позднего Мандельштама.
Если говорить о том, чему я был современником как литератор, то это «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, «Сандро из Чегема» Фазиля Искандера и «Москва—Петушки» Венедикта Ерофеева.
Что до современных книг о России, то я лично не знаю, кто сейчас справляется с такой задачей. Мне кажется, что такой человек уже должен появиться, просто он еще никому не известен.
Сергей БОЛМАТ
Назад к списку
«Жизнь Антона Чехова» Дональда Рейфилда. Вот отличнейшая современная книга про Россию. Это книга, которая наглядно и убедительно показывает, что и в России когда-то вполне могли жить талантливые, интеллигентные, симпатичные, независимые люди, что такое теоретически возможно.
Юрий БУЙДА
Назад к списку
Среди множества имен и книг я выбрал бы Франца Кафку с романом «Процесс» и Андрея Платонова с повестью «Джан».
Будь Кафка русским писателем, его роман «Процесс» под названием «За что?» вписался бы в ряд таких книг, как «Что делать?» и «Кто виноват?». Вопросы такого рода в России впервые прозвучали после Смуты, когда современники и участники страшных событий попытались докопаться до причин вселенских бедствий, свалившихся на страну. Разумеется, это было Божьим наказанием «за грехи наши», но пробудившееся историческое самосознание не могло удовлетвориться традиционной формулой. Дьяк Тимофеев в своем «Временнике» дал прямой ответ: «Не чуждеи земли нашей разорители, но мы сами ее потребители». Келарь Троицы Авраамий Палицын оказался еще безжалостнее, назвав среди важнейших причин Смуты «всего мира бессловесное молчание». Йозеф К. искал Бога добра и зла вне человека, вне себя, освободив себя от ответственности за это добро и зло (и за Юрия Гагарина, и за ГУЛАГ, выражаясь другим языком), а потому и был обречен на движение по замкнутому кругу, которое было остановлено простым «арифметическим» ударом ножа. Убила его, конечно, не система, нет: «вы и убили-с».
В повести Платонова странным образом уживаются два начала: одно — условно «левое», то есть отрицание сложившихся форм бытия, бездомность, роковая свобода, другое — условно «правое», то есть дом, доверие к «самостоянью человека», к самой жизни, к тем ее извечным рутинным основаниям, которые позволяют нормальному человеку жить и воспроизводить жизнь. Впрочем, это спекулятивное упрощение: тело жизни едино. Преобразователь, переустроитель жизни Назар Чагатаев — странный революционер, ничего общего не имеющий с «партийным человеком» Нур-Мухаммедом, и если искать более или менее близких ему персонажей в русской литературе, то это — в самом широком смысле — скорее «евангельский» Раскольников, князь Мышкин, Платон Каратаев, горьковский Лука и солженицынская Матрена. Он из тех, кто способен «полюбить жизнь прежде смысла ее» (Достоевский). Накормив людей, он отпускает их на волю, не посягая на выбор этого безмозглого и ленивого народа, не пытаясь придать никакого смысла существованию этого народа, доверяясь его инстинктивной тяге к «жизни прежде смысла ее», и его не пугает, что это тяга не только к божественным высотам, но и к дьявольским пропастям. Эта фантастическая история, абсолютно правдивая благодаря «нечленораздельной истинности языка», когда плоть духовна, а мысль физиологически чувственна, — величайшее произведение о любви, какое только могло присниться русскому человеку XX века.
Дмитрий БЫКОВ
Назад к списку
«Война и мир» Толстого, потому что она объясняет русскую этику, сильно отличающуюся от общемировой. «Золотой теленок» Ильфа и Петрова, потому что эта книга действительно лучше всего описывает оптимальный образ жизни в стране непуганых идиотов, какой Россия бывала довольно часто. «Другая жизнь» Трифонова, потому что она показывает разные способы устроить себе другую жизнь в России, отличную от общей, а это самое продуктивное, как мне кажется.
Григорий ДАШЕВСКИЙ
Назад к списку
Чтобы понимать происходящее здесь, точнее — чтобы понимать само это «здесь», надо уметь в любую секунду переключать сознание из максимально ясного, рационального, стопроцентно посюстороннего режима в режим доверия к мистическим озарениям и эзотерической мудрости, а еще лучше — держать оба режима включенными одновременно и видеть Россию и как особую мистическую сущность, и как место, для понимания жизни в котором вполне достаточно применимых к жизни в любом месте критериев порядочности, разумности и гуманности. Так что я бы читал одновременно «Розу мира» Даниила Андреева и письма Чехова; а по скольку страниц откуда — эту меру каждый найдет для себя сам. Но, вообще говоря, неверна сама идея, что во время событий надо читать старые книги, чтобы события лучше понять. Наоборот, только став участниками событий, мы получаем шанс понять давно написанные и даже много раз нами перечитанные книги. Не благодаря книгам лучше понимаешь события, а благодаря событиям лучше понимаешь книги. Как, впервые сам полюбив, человек заново понимает смысл всех стихов и романов о любви, читает их новыми, повзрослевшими глазами, так и мы сейчас можем повзрослевшими глазами перечесть мемуары и романы о смутах прошлого — сейчас, когда мы на себе понимаем, насколько трудно, почти невозможно отдельному человеку найти верную линию во время больших событий, насколько человек связан не только в своих поступках и решениях, но даже в своих мыслях своим прошлым, своей средой, своими дружбами и враждами, своими пороками и своими добродетелями. Так что хорошо бы этой новой способностью понимания воспользоваться и перечитать, пока есть время, как можно больше книг о людях, живших до нас, — чтобы лучше, чем прежде, понять не себя, а их.
Борис ДУБИН
Назад к списку
Одна — что называется, специальная. Это «Абортивная модернизация» Льва Гудкова (М.: РОССПЭН, 2011). Кому-то она может показаться сборником социологических статей разных лет, но это не так: в ней есть твердая линия, по-своему жесткая последовательность, сквозное движение единого сюжета, вынесенного в заглавие. Она систематична и аналитична, обстоятельна и доказательна, словом — высокопрофессиональна. Любое из этих качеств не в каждой книге встретишь, тем реже они сходятся в одной. Диагноз — и не только стране, людям, но себе, своему поколению — печален и нелицеприятен.
Знать это нужно непременно.
Другая — из другого ряда, для обращения самого широкого, насколько, впрочем, сие возможно при нынешних тиражах: это «Знаки внимания» Льва Рубинштейна (М.: Corpus, 2012). Но можно его же «Духи времени», можно и «Случаи из языка». Внешняя простота составивших эти книги заметок — опять-таки мнимая: это работа тонкая, ювелирная, вглядимся и вдумаемся даже только в названия. Словно выходишь на улицу после фильмов Расторгуева — ловя себя на том, что смотришь вокруг теми же глазами. Рубинштейновская фраза звучит потом долго, это свойство поэта. И, как оно и бывает с настоящей поэтической находкой, ахаешь: «Как это я сам не заметил?»
Зиновий ЗИНИК
Назад к списку
Чем больше я за последние десять лет (по разным причинам) перечитываю европейскую и в особенности немецкую (послевоенную) литературу, тем острее ощущается мной какая-то зияющая дыра в интеллектуальном самоосознании России — то есть в ее литературе. К сожалению, германо-австрийский опыт денацификации не оставил практически никакого следа в умах российской интеллигенции. Не немцам, мол, нас учить? (Всего 12 лет гитлеризма, затем принудительная либерализации общества войсками союзников и т.д.) Или же тут действуют законы сознательной амнезии?
Роман «Beton» (1982) австрийского писателя Томаса Бернхарда (Thomas Bernhard) не переведен (если не ошибаюсь) на русский. Существующие монотонные и бесцветные переводы нескольких других романов этого уникального мыслителя создают ложное — слишком серьезное и занудное — представление о нем. Его герой — обличитель-интеллектуал. Но Бернхард не сочинял обличительные эпистолы, а создавал макабрически-комические романы. В своих маниакальных монологах (Бернхард пишет без абзацев) этот герой-демагог обличает Австрию так, как не снилось даже Сорокину с его опричниками. Родина для него — это «отвратительный, депрессивный, грязный и вонючий общественный сортир». Это сильно сказано, но Бернхарду этого недостаточно: этим сортиром (говорит герой Бернхарда) управляет авторитарная католическая церковь и псевдосоциалистическое крипто-фашистское правительство. Все это замечательно. И очень похоже на монологи всех интеллигентов на свете — от Москвы до Нью-Йорка. Мы все разоблачаем «систему», но пальцем не шевельнем, чтобы эту систему изменить. Его герой не может предпринять ни единого шага, чтобы изменить хотя бы свою личную жизнь. Всегда виноват кто-то еще — не он сам. (Даже в литературе о ГУЛАГе, включая, в первую очередь, Солженицына, в национальной катастрофе сталинизма всегда оказываются повинны некие дурные люди, какие-то внутренние душевные враги, евреи, гэбисты, а не мы с вами, не авторы повествования с их педагогическо-наставительными интонациями. Исключение — Варлам Шаламов.) Томас Бернхард (он скончался в 1989 г., получив все мыслимые австрийские литературные премии) в завещании запретил посмертную публикацию своих пьес и романов в Австрии. Его наследию, однако, повезло: по соседству с Австрией существует немецкоязычная Германия.
В своей документальной книге «Luftkrieg und Literatur» (1999) немецкий писатель-эссеист В.Г. Зебальд говорит о реакции германской литературы на тотальное уничтожение немецких городов и их населения в испепеляющем огненном столбе бомбежки британцев во Второю мировую войну. Это был акт чуть ли не ветхозаветного мщения — страшного урока Черчилля Гитлеру. Как объясняет Зебальд, эта апокалиптическая картина тотальной деградации немцев (часть населения Гамбурга, оставшаяся в живых после этой огненной печи бомбежки, была доведена до животного состояния) оставила настолько глубокий шрам в национальном сознании, была такой травмой — жутким финалом гитлеровской утопии, что до последнего времени эти ужасы обходились молчанием в немецкой литературе. Отчасти причиной этому было нежелание немцев описывать собственные жертвы в войне — как якобы оправдание ужасов нацизма. Это подводит Зебальда (вслед за евреем-итальянцем Примо Леви) к вопросу о национальной амнезии, к стремлению найти самооправдание собственной политической пассивности. Для российского читателя — хорошо понимающего нюансы вопроса о коллективном соучастии в преступлениях сталинизма, особенно в свете того, что происходит в России сейчас, — крайне поучительно звучат страницы книги, где Зебальд иронизирует над творчеством тех писателей, кто остался в Германии при нацизме, — «внутренних эмигрантов». После войны многие из них оправдывались тем, что, несмотря на тоталитарный ужас вокруг, они «пестовали в своем кругу идеалы гуманизма, проповедовали восточную мудрость внутренней свободы». Я читал эту ошеломляющую прозу в английском переводе: W.G. Sebald — On the Natural History of Destruction. Эта книга вроде бы до сих пор не переведена на русский.
Как вы заметили, я говорю о книгах многолетней давности. Но литературный процесс в России всегда шел с некоторым сдвигом по времени, вовсе не обязательно с запозданием. Поэтому не без самоиронии приведу все еще актуальную цитату из русской классики — романа «Дым» И.С. Тургенева: «Вот поднять старый, стоптанный башмак, давным-давно свалившийся с ноги Сен-Симона или Фурие, и, почтительно возложив его на голову, носиться с ним, как со святыней, — это мы в состоянии...»
Вяч. Вс. ИВАНОВ
Назад к списку
Ф.М. Достоевский, «Братья Карамазовы» (но главным образом я имею в виду главу «Великий инквизитор»);
Владимир Соловьев, «Краткая повесть об Антихристе»;
Андрей Белый, «Петербург».
Эти три вещи вместе объясняют тенденцию или склонность злых сил, которые норовят повернуть историю России в дурную сторону: единовластие, подавление индивидуальной творческой свободы, равнодушие к простому человеку.
Александр ИЛИЧЕВСКИЙ
Назад к списку
Увы, это «Воспоминания о дороге на Кальду». Недописанный рассказ Кафки 1912 года о недостроенной сибирской дороге на мифическую Кальду, о таком БАМе или северном, недостроенном также, пути из Архангельска на Колыму, который Сталин велел строить зэкам, чтобы дублировать по суше Северный морской путь, после того как немецкие подлодки полностью блокировали его для конвоев. Кафка — профетический писатель, он написал самый точный текст об Америке, ни разу там не побывав, и подобно Ионе, посланному в Ниневию возвестить о ее скорой гибели, он пишет текст о России, сам не ведая, что описывает ее судьбу в XX веке. Россия есть историческая сущность недоношенных, недовоплощенных идей и событий, недораскаянности и недоношенности, которые в целом формируют онтологию проклятия. Валерий Подорога говорит о невозможности великой культуры для страны, не осознавшей ГУЛАГ и не раскаявшейся за него — за весь XX век — кровавыми слезами. Опасаюсь, что это же справедливо не только для культуры российской, но и самой российской истории.
Николай КОНОНОВ
Назад к списку
Для меня объяснить Россию — это прочесть настоящую книгу, написанную по-русски. Такой оказалась книга Лидии Гинзбург «Проходящие характеры», идеально подготовленная Эмили Ван Баскирк и Андреем Зориным по архивным россыпям.
Сам язык этой книги предстал смыслопорождающим, то есть философским и новым, оперирующим массивами недавней истории, которые могут уместиться в русской фразе. Этот эффект, свойственный большой литературе, опознаваемый мгновенно, как разрыв, — оказался в случае Гинзбург интеллектуально протяженным. Парадоксальное исследование «краевых положений» человека, переживающего голод, смерть, любовь, оказалось развернутым ею в небывалую речь о единственно возможном способе самоспасения посредством ответственного понимания самого себя как единственной связки в убийственном перемежении социального времени.
Ее небывалая серьезность словно критиковала на всем протяжении книги обольщение любыми формами зла — что затронуло практически всех ее сопластников, присягнувших в свое время советской доктрине.
Алексей ЛЕВИНСОН
Назад к списку
Рекомендую сборник статей Алена Безансона «Советское настоящее и русское прошлое», где он вводит понятия «нэп» и «военный коммунизм» как типологические для истории России.
Юрий МАМЛЕЕВ
Назад к списку
Я как раз в последнее время вплотную занимался этой проблемой — Россией, ее сущностью, судьбой. Поэтому могу порекомендовать мою книгу «Россия вечная» («Эксмо», 2012), в которой изложена уникальная концепция России духа и России земли.
Это философская и литературно-публицистическая работа, она связана с другой моей книгой «Судьбы бытия», которая сейчас издана на французском языке: впервые после революции пришло учение из России в Европу.
Книга «Россия вечная» посвящена интерпретациям русской философии, литературы, истории, русского духа на основе русской классической культуры и нового понимания этой культуры. Она касается всех духовных и исторических аспектов, и в ней содержится прогноз на будущее.
Максим ОСИПОВ
Назад к списку
«Бесы» Достоевского. Думаю, многие их назовут. Во-первых, в этой книге уже содержится ряд сбывшихся предсказаний. Например, пародийное изображение ухода и смерти Толстого или более мелкое событие — написание Чайковским увертюры «1812 год».
Лямшин исполняет на фортепиано собственную фантазию «Франко-прусская война»: «Марсельеза» в ней сменяется «Ах, майн либер Августин» (у Чайковского «Марсельеза» переходит в «Боже, царя храни»). Главное же, конечно, в том, что в «Бесах» содержится большая правда о революционерах — не только о прошлых, но, возможно, и будущих. Я люблю говорить, что в России за десять лет меняется многое, за двести же — ничего. «Экая дрянь народ, однако!» — разве это восклицание Петруши Верховенского не звучит современно?
Павел ПЕППЕРШТЕЙН
Назад к списку
«Евгений Онегин» А.С. Пушкина, «Война и мир» Л.Н. Толстого и «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского — главные книги о России.
Я думаю, что значимость того или иного произведения создается объемом комментирующих и интерпретирующих текстов, а поскольку эти произведения являются чемпионами по объему комментариев к ним, соответственно, они наиболее значительны в ракурсе данной темы.
Игорь ПОМЕРАНЦЕВ
Назад к списку
У американского историка Тимоти Снайдера есть книга «Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным» (2010 г.). Речь в этой книге идет о тридцатых-сороковых годах прошлого века. Американец называет Украину самым смертоносным местом в мире в этот отрезок времени. Приводит цифры: из 17 миллионов мирных граждан, погибших на территории Евразии, 14 миллионов погибли на территории Украины. Это произошло в течение 12 лет. Тимоти Снайдер называет это «крупнейшей катастрофой в истории западного мира». Среди жертв — евреи, украинцы, поляки, русские, немцы, цыгане и другие (в таком контексте неловко писать «и другие»). Их морили голодом, расстреливали, сжигали. Причем и коммунисты, и нацисты обходились без лагерей: Голодомору и Холокосту лагеря не понадобились. Новизна книги Снайдера заключается в том, что он анализирует катастрофу не с точки зрения этнической или национальной. Его прежде всего интересует, почему именно эта земля, эта территория стала местом трагедии.
Читая «Кровавые земли», я часто вспоминал Россию. Какая тайна заключена в ее почве? Что это за земля, которая на протяжении веков притягивает смерть? Играют ли в этом роль магнитные полюсы земного шара? Можно ли анализировать историю России с точки зрения геофизики? Не является ли наличие на территории российского государства полезных ископаемых свидетельством аномалии земной коры, мантии, твердого внутреннего тела? Была бы Россия чемпионом Европы по самоликвидации и ликвидации других, если бы ее жители en masse переехали в Сибирь? Необходимо провести разведочные геофизические работы в акваториях, из космоса, в скважинах. В России работают сотни первоклассных геофизиков, готовых решить самые сложные геофизические и геополитические задачи. Разве не так?
Вот о чем я думал, читая «Кровавые земли».
Евгений ПОПОВ
Назад к списку
Единственная книга, внятно объясняющая, что с Россией было, есть и что будет дальше, — это «Бесы» Ф.М. Достоевского. Для тех, кто ее читал, мои слова в пояснении не нуждаются. Но все-таки: смысл революции, неловкость государства и его глупых представителей, роль интеллигенции, рабочих и «трудового крестьянства» в том, что случилось и продолжает происходить с Россией, амбивалентность русского человека, лежащая в основе общественной российской жизни, и множество других МЕТ СТРАНЫ И ЕЕ ОБИТАТЕЛЕЙ — все это богоданным гением автора высвечено в романе полностью.
Каторжный Федька, Степан Трофимович Верховенский, Ставрогин, губернатор Лембке и капитан Лебядкин — все это одна лавочка, близнецы и братья.
Надежда не в романе, а в евангельской истории, давшей ему жизнь.
Внедрившиеся в мирных свиней бесы, упавшие с обрыва в море, тонут, но медленно.
Захар ПРИЛЕПИН
Назад к списку
Есть универсальные книги, которые популярны в России и во всем мире. В недавнем списке, составленном европейскими литературными экспертами, роман Льва Толстого «Анна Каренина» находится на первом месте. О значимости этого романа говорят в том числе и его мировые экранизации.
В этой книге отражены не только базовые общечеловеческие, касающиеся семьи, аристократии, элитариев и квазиэлитариев, но и сугубо европейские вещи, затрагивающие русский характер и русские духовные поиски. Фигура Левина является определяющей вообще для позиции русской интеллигенции как таковой.
Федор Достоевский, «Братья Карамазовы». Три типа русского характера, отображенные в «Братьях Карамазовых», неизменны во все времена до тех пор, пока существуют русский язык и русская география. В разные годы и разные столетия черты, заложенные в «Карамазовых», можно обнаружить в нигилистах, либералах, анархистах, национал-большевиках, религиозных сектантах и русских святых. Русская хтонь, русская страсть, русская боль — все то, что не дает покоя нам и не даст покоя миру, пока мы есть. Все это — в «Братьях Карамазовых».
Роман Александра Терехова «Немцы». Как ни странно, роман с таким названием является идеальным срезом той России, которая остается неизменной во временах, начиная с Фонвизина, гоголевского «Ревизора» и Салтыкова-Щедрина. Российское отвратительное чиновничество, человек со своей бессмертной душой, попавший в ситуацию, когда он имеет все шансы заработать себе ад при жизни и отчасти узреть его...
Юрий РОСТ
Назад к списку
«Бесы» Ф.М. Достоевского, «Котлован» Андрея Платонова и «Мы» Евгения Замятина. Все они объясняют Россию — и ничего не объясняют. И Оруэлл, и Толстой, Чехов, Зощенко, Жванецкий тоже объясняют, что будет с Россией, но какая она будет — никто не знает, поэтому все ошибаются.
Ольга СЕДАКОВА
Назад к списку
Таких книг-ключей я назвать не могу. Каждая серьезная книга, написанная по-русски, что-то говорит о России. Объяснить Россию: кому, во-первых? И какую ее часть? По-моему, никто ничего не объясняет.
Алексей ЦВЕТКОВ
Назад к списку
Есть очевидные кандидаты в этот список, в первую очередь лучшие образцы классической русской прозы. Но хотя они в свое время вывели Россию в центр европейского и мирового внимания (в лучшем смысле, чем у России получалось до тех пор), созданная ими перспектива была во многом ложной для тех, кто пытался воспринять предлагаемую трактовку, как правило, полемическую, для нужд внутренней аудитории, как объективную интерпретацию реальности. В числе таких книг — в первую очередь «Война и мир» Л.Н. Толстого.
Есть другой тип литературы, документально-мемуарного плана, иногда с претензией на интерпретацию, и в этом ряду известнее всего «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына. И однако, несмотря на огромный резонанс, который получила эта книга, она скорее создала больше новых вопросов, чем дала ответов на прежние. В чем, собственно, заключается встроенная «неисправность» российской истории, регулярно заводящая ее в кровавые тупики? Ответ, который попытался дать сам Солженицын, мало кому показался удовлетворительным, а его последующие выступления сильно скомпрометировали самого автора в глазах непредвзятой части аудитории.
К третьей категории, для меня наиболее важной, принадлежат исторические исследования в прямом смысле этого слова, и в первую очередь такие, которые что-то проясняют для меня самого, хотя они не обязательно принадлежат к числу самых известных и заслуживают большего влияния. Если выбрать только одну книгу, то я бы назвал работу британского историка Джеффри Хоскинга «Россия: народ и империя. 1552—1917». Тезис Хоскинга сводится вкратце к тому, что Россия так и не сумела преодолеть порог перехода от империи к нации — этот процесс однажды, то есть в советскую эпоху, почти завершился, но помешали известные события. Не то чтобы это сразу все объяснило, но явно больше, чем Толстой или Солженицын.
Владимир ШАРОВ
Назад к списку
Мне кажется, мы не так уж и похожи друг на друга. В стране всегда жили и сейчас живут люди, по-разному понимающие и себя, и других, со своей правдой, со своим путем к этой правде. Ясно: чтобы все это объять — одного писателя мало. Все пишущие друг друга дополняют и комментируют, пока шаг за шагом мы не начинаем узнавать себя и свое будущее.
Из зарубежных книг это, пожалуй, «Россия в 1839 году» маркиза Астольфа де Кюстина. Многие из записок иностранцев о России чрезвычайно любопытны: в них немало тонких зарисовок, главное же — есть то, что видно только со стороны, то есть сама конструкция устройства жизни. Но и на этом фоне Кюстин выделяется. День за днем он внимательно наблюдает за нашей искусственной, странно несогласованной жизнью, и ты ясно понимаешь, до какой же степени все непрочно.
Что касается революционной и постреволюционной России, то здесь если я хоть что-то в нас и понимаю (кем мы были, чего хотели, как и куда шли), то в первую очередь благодаря роману Андрея Платонова «Чевенгур». Жизнь устроена так, что бездна всего, без чего ее невозможно понять, — уходит, пропадает без следа. Ткань жизни рвется, и ее уже не заштопаешь. Благодаря «Чевенгуру» восполняются многие утраты. Вне всяких сомнений, это то же воскрешение из мертвых, доступное человеку и никак не посягающее на прерогативы высшей силы.
Татьяна ЩЕРБИНА
Назад к списку
Три книги: «Мертвые души», «Бесы» и «12 стульев». Они читаются как актуальные в любой период российской истории. Эти бессмертные персонажи составляют большинство населения России, есть еще и «прекрасные эпохи» внутри «железных веков» — поэты.
Михаил ЭПШТЕЙН
Назад к списку
1. Маркиз Астольф де Кюстин. «Россия в 1839 году».
Маркиз де Кюстин по отношению к России — то же, что Алексис де Токвиль по отношению к Америке: чужеземцы описали дух и обычаи стран, где пробыли всего несколько месяцев, с такой проницательностью, что их записки и сегодня можно читать как откровения о национальных характерах и судьбах. Если «Демократия в Америке» считается лучшей в мире книгой о демократии в Америке, то книга де Кюстина — лучшая книга о России и абсолютизме. Де Кюстин приехал в Россию убежденным монархистом, а вернулся во Францию либералом и республиканцем. «Нужно жить в этой пустыне без покоя, в этой тюрьме без отдыха, которая именуется Россией, чтобы почувствовать всю свободу, предоставленную народам в других странах Европы, каков бы ни был принятый там образ правления...»
2. Николай Бердяев. «Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века» (1946).
Наилучший компендиум благородных и метафизически глубоких мыслей о России, как всегда у Бердяева, вдохновенных, хотя и не без легкого налета пошлости (в его время не столь заметной, как сейчас).
3. Александр Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ. Опыт художественного исследования» (1958—1968, опубл. 1973).
Гигантская энциклопедия не только ГУЛАГа, но и коллективного бессознательного, которое при любых политических режимах выходит наружу. Когда я в 1970-е читал эту книгу в самиздате, то был уверен: стоит ей выйти из подполья и быть прочитанной всеми, особенно студентами и школьниками, — и Россия изменится бесповоротно. Невозможно обществу жить по-прежнему с таким знанием о себе. Оказывается, возможно.
Подготовила Екатерина Дробязко (при участии Маргариты Остроменской)
-
18 сентябряМайк Фиггис представит в Москве «Новое британское кино» В Петербурге готовится слияние оркестров Петербургская консерватория против объединения с Мариинкой Новую Голландию закрыли на ремонт РАН подает в суд на авторов клеветнического фильма Акцию «РокУзник» поддержал Юрий Шевчук
Кино
Искусство
Современная музыка
Академическая музыка
Литература
Театр
Медиа
Общество
Colta Specials
