Левый мозг

ВАСИЛИЙ КОРЕЦКИЙ о своем трансгрессивном опыте столкновения с субпродуктами и о феномене фуди вообще
Чтобы поддержать светский разговор с мясниками на рынках, я обычно спрашиваю их про говяжью диафрагму. Этот разговор волнует, но ни к чему не обязывает: о диафрагме слышали все, но почему-то никто ее не продает. «Собакам обычно берут, хотите — забирайте, но всю», — доверительно сказала мне одна женщина с топором на рынке «Выхино» и вынесла лохматый, не зачищенный лоскут — или даже отрез — серой плоти. Отрез выглядел внушительно и страшно, я перед ним оробел — а больше ни разу и не предлагали. Но вот, кажется, мечта стала чуть ближе — другая добрая женщина, без топора, велела приходить на неделе.
На неделе, конечно же, ничего не привезли; чтобы как-то снять ощущение кулинарной фрустрации, я внезапно решил взять мозги. У нас с мозгами давний воображаемый роман: ел я их однажды в детстве, и этот вкус с тех пор превратился в призрачное воспоминание, приятный сенсорный след, вроде запаха карбида: вспомнить толком нельзя, но сантименты вызывает. Потом были годы работы в НИИ, омраченные ежемесячными утренними поездками на мясокомбинат, как раз в разгар эпидемии коровьего бешенства. За мозгами. В цеху комбината некто дядя Леня брал коровью голову с вытаращенными глазами, клал ее в специальный гидравлический пресс, нажимал на кнопку — и голова трескалась. Дядя Леня лез в черепную коробку голыми руками, ловко поддевал пальцами теплый мозг и перекладывал его в мою защищенную латексом руку. Весь материал шел на опыты — есть его в то время, когда в Англии еще не остыл пепел скотомогильников, казалось самоубийственной затеей; лучше уж рыба фугу. Из милой ностальгической детали мозги превратились в сладкий, но недосягаемый плод, стали черной дырой в моем гастрономическом опыте, зияющей пустотой, которую не заполнить даже «молоками лососевых рыб» в кляре. Так было до позапрошлой недели, когда я, оказавшись в кафе Д., увидел их в меню, заказал, съел и... Ну вы меня понимаете, наверняка сами их там пробовали.
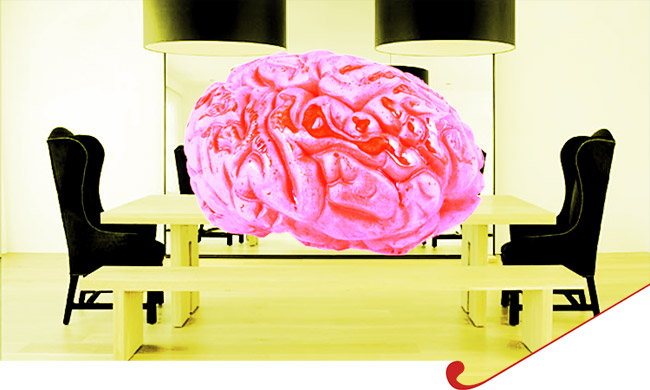
Так вот, дома с мозгами вышло не так, как в кафе, совсем по-другому. Фантазм, ставший реальностью, превращается в кошмар — и этот кошмар был у меня во рту. Вроде все похоже — но вкус этих приготовленных по всем правилам мозгов был слишком прямым, слишком настоящим, невыносимо мозговым; больше, вероятно, я не смогу их заказать даже там, где они явились ко мне в виде эталона, поджаренной чистой идеи субпродуктов. Но прошло уже три дня, а я все думаю о них. И вот даже пишу, хотя коллеги попросили написать меня совсем о другом — «Краткую историю фуди». Хотя разве эта необъяснимая, иррациональная одержимость тем, чего не можешь есть, — не типичная история фуди?
Кстати говоря, кто вообще такой фуди? Эпикуреец? Обжора? Гастроном? Гурман? Некоторые понимают его как собирательный синоним всех этих слов. Нет, не то! Фуди — это современный деипнософист, типичный ноубрау-персонаж, феномен второй половины XX века, которая не только дала человеку право на радость и наслаждение, но и вменила их ему в обязанность (см., например, фильм «Стыд»), отвергла представления о том, что быт и телесность мешают жизни духа.
Был такой французский мыслитель Эммануэль Левинас, сильно повлиявший на Деррида. Так вот, Левинас подвел под гурманство мощную философскую базу, о, которой, к счастью, не знают посетители гастропабов и фермерских рынков. Он, в сущности, сделал для апологии приема пищи примерно то же, что Лакан — для секса: Левинас утверждал, что еда не является для человека процессом удовлетворения физиологических потребностей, утоления голода, что сфера гастрономии — это сфера чистого удовольствия, и именно в этом удовольствии человек приобретает субъективность, необходимую для того, чтобы у него появился голод другого рода — голод к философской истине, потребность в потребности (в знании).
Оспаривая французского кулинара и физиолога Брийя-Саварена (1755—1826), эрудита и эстета, облагородившего сферу пищеварения оптимистическим позитивизмом Просвещения, Левинас настаивал на том, что мы — это не то, что мы едим. Напротив — поедая пищу, человек перестает быть животным и становится человеком, питаясь окружающим миром, начинает отличать себя от него (тут сразу приходят на ум заявления Маркса о том, что голод, удовлетворяемый при помощи когтей и зубов, — это не тот голод, который удовлетворяется с применением ножа и вилки). Более того — едок становится в отчужденную, рефлексирующую позицию по отношению к самому себе (тут уже вспоминается первый мифологический опыт различения и рефлексии, пришедший к Адаму и Еве вместе со вкусом яблока). Даже отношения с Другим строились у Левинаса через желудочно-кишечный экспириенс — признание Другого начинается, по его мысли, с того, что человек признает голод другого, чувство, которое знакомо ему самому, чувство, которое позволяет испытать к Другому не холодный альтруизм, но эмпатию. Все это довольно сильно похоже на лаканианскую теорию сексуальности; Левинас даже использовал для обозначения гастрономического удовольствия то же слово jouissance, «наслаждение», что и Лакан — для обозначения удовольствия сексуального (в широком, не только физиологическом, смысле). Но психоанализ учит нас, что настоящее удовольствие — прибавочное, то, которое возникает в результате трансгрессии.
Кажется, именно этот опыт трансгрессии, преодоления культурно-социальных моделей и стереотипов, габитуса — и есть принципиальное отличие фуди от просто гурмана. «У нас не едят червей!» — таких слов вы никогда не услышите от настоящего фуди. Все эти сегодняшние возвышенные переосмысления гамбургеров и пиццы, гастрономический брутализм персонажей типа Магнуса Нильсена (шведский шеф, работающий с жиром и костями, а также мясом коров молочных пород, считающимся несъедобным), интерес к полбе и серым щам суть преодоление внутренних гастрономических барьеров. Когда я в четвертый раз возьмусь за говяжьи мозги (а это, я уверен, случится), то, мне кажется, воображаемого удовлетворения в этом будет куда больше, чем реального гастроопыта.
Не случайно о феномене фуди говорят обычно применительно к странам, имевшим долгий период кулинарной ригидности, незрелости или стандартизации, — США, Великобритании, России. Невозможно представить себе фуди-француза или фуди-итальянца — в стране, где люди, едва выбравшись из послевоенной бедности, стали тратить деньги не на автомобили, а на местные деликатесы, еда не имеет «темной стороны», с которой можно вступить во внутреннюю полемику. Традиционные пищевые революции проходят в режиме вечной войны Поста с Масленицей, но всякая фуди-революция вырывается из этой карусели «годы изобилия — годы опрощения, мода на говядину веллингтон — мода на горошек», она сродни революции сексуальной, которая всегда задается вопросом не меньшим, чем «Есть ли в СССР секс?» Требование гусиной печени в супермаркете Среднего Запада в 61-м было, думаю, не менее радикально, чем секс на лужайке Центрального парка в 68-м. Эскапады Фанни Крэдок, полубезумной ведущей кулинарных передач на BBC 1970-х, затмевают концерты Sex Pistols, а комические репризы с продуктами, которые исполнял коллега Крэдок Грэм Керр, сегодня смотрятся куда эксцентричнее номеров «Цирка Монти Пайтона».
Сейчас это кажется невероятным, но до 70-х в кинематографе существовал негласный запрет на показ еды.
Принято считать, что главная — американская — фуди-революция 60-х питалась от двух источников, находившихся в состоянии антагонизма: с одной стороны, буржуазный светский интерес к французской кухне, связанный с появлением в Белом доме повара-француза (феноменальный успех Джулии Чайлдс, великой пропагандистки французского образа питания, стал лишь побочным эффектом этого любопытства), с другой — хиппи с их зелеными комплексами, любовью к граноле и немытой морковке. Результат — рождение в 1971 году «новой калифорнийской кухни», совершенно немыслимой в Америке 30-х и 50-х, стране консервов, ДДТ и TV-dinners (затянутый фольгой одноразовый поднос с полуфабрикатом ужина), кухни, которая была очевидной игрой в неамериканцев. Но в слиянии этих противоположностей не было никаких преодолений табу: настоящая фуди-трансгрессия происходила в это время не на кухнях, а на экранах кинотеатров.
Сейчас это кажется невероятным, но до 70-х в кинематографе существовал негласный запрет на показ еды. Люди на экранах ели — но непонятно что (и понятно почему: еда в ч/б, да и в анилиновом «Техниколоре» смотрится несколько тошнотворно). Первые стопроцентные фуди-фильмы появились вообще только в конце 1980-х: японская комедия о лапше «Тампопо» — в 1985-м, датское «Застолье Бабетты» по роману Карен Бликсен — в 1987-м (актеров там так и не смогли заставить по-настоящему высасывать мозг из запеченных куропаток, как того требовала историческая правда). При этом драматический потенциал пищи и трапезы режиссеры 1970-х уже вполне понимали. К примеру, очень любопытно следить за ролью итальянской кухни в «Крестном отце»: в фильме имеется четыре фуд-сцены, включая обед Майкла Корлеоне с Солоццо и его охранником, заканчивающийся расстрелом врагов Корлеоне. Еду на тарелках нам демонстрируют только в последней — сцене совместного обеда младших Корлеоне, во время которого дети нарушают негласное табу отца и начинают обсуждать дела в присутствии женщин и детей. Непристойность поведения персонажей подчеркивается откровенностью оператора, который наконец-то в открытую показывает надкушенные пироги и крошки.
К слову, подозреваю, что именно игра со сладким и гадким создала репутацию и Джейми Оливеру: в его популярных книгах лучшие главы — это те, которые посвящены одиозным десертам 80-х вроде торта «Черный лес», переосмысленным в современной раздолбайской эстетике.
К счастью, в России, вся недавняя кулинарная история которой просто пропитана чувством вины и ощущением неловкости, фуди не приходится искать такие деликатные раздражители, как недоеденный пирог. Тут вставляет все, и недаром Константин Вагинов, довоенный певец трэша и кэмпа, ставил увлечение кулинарией в один ряд с другими, вполне сюрреалистическими и эзотерическими, хобби своих персонажей — коллекционированием порнографии и спичечных этикеток, изучением второразрядных поэтов скучных эпох и т.п. Приготовление ужина всегда носит в его книгах оттенок непристойности — деликатесы покупаются на ворованные у любовниц деньги, в лавочках презренных нэпманов, а сама готовка выглядит как акт отчетливо декадентского, обреченного эскапизма. Впрочем, мелкобуржуазные забавы героев «Бамбочады» — ничто по сравнению с тем, что предлагает перверсивным гурманам советская и постсоветская гастрономия. Тут есть и фетишистская советская фиксация на частичных объектах, выдернутых из массива кулинарной культуры символах dolce vita (шпроты, чай «Липтон», абстрактный «французский коньяк» плюс необъяснимая страсть к полусладкому шампанскому), и запретное удовольствие от «маминых блюд» вроде селедки под шубой, котлет с гречкой и салата оливье (впрочем, благодаря многолетним усилиям поваров Комма и Рожкова советская майонезная классика, кажется, полностью изжила в себе эту нервную струну). И, конечно, фастфуд вроде гамбургеров и пиццы — прекрасно помню выражение ужаса в глазах одной моей придерживающейся предрассудков здорового питания подруги, увидевшей в меню все того же кафе Д. гамбургеры (разумеется, из фермерского мяса свободного выпаса). Шаурма. Консервированные овощи. Каши. Пироги. Хрусталь. Чай с вареньем. Водка, «для приличия» перелитая в графин. Кулинарные кошмары детства вроде костлявой селедки с пюре или тарелки горохового супа с зеленой тиной на дне. Все это ждет того, чтобы быть переосмысленным, упакованным в иронию, вынутым из пучин бессознательного, встроенным в новый символический контекст благополучия, изобилия и заботы о себе. Вопрос только в том, способны ли все эти гастрокультурные манипуляции залечить ту детскую травму столкновения с Реальным, которую нанесли мне (и, возможно, вам) повара детсадовских кухонь и школьных столовых? Стану ли я счастливее, перестав каждый раз содрогаться от запаха капустного супа и вида тефтелей-ежиков? Останется ли у меня мечта, когда я наконец узнаю секрет правильного приготовления говяжьих мозгов?
-
18 сентября«Дождь» будет платным
-
17 сентябряМинобороны займется патриотическим кино Начался конкурс киносценариев «Главпитчинг» Противники реформы РАН пришли к Госдуме Шер отказалась петь на Олимпиаде в Сочи Роскомнадзор: блокировка сайтов неэффективна
Кино
Искусство
Современная музыка
Академическая музыка
Литература
Театр
Медиа
Общество
Colta Specials
